– Значит, зоркий гинеколог уверен, что Гил не был моим сыном?
– Да.
– Я никогда не видел, чтобы ты принимала меры предосторожности.
– Я это делала не так очевидно, как ты, когда об этом вспоминал, что случалось далеко не всегда. Когда ты натягивал презерватив, а потом снимал, довольный, что так хорошо его наполнил. Осел ты тщеславный.
Воцарилось молчание, и наконец Нюэла его нарушила:
– Не принимай это так близко к сердцу, Джон. Никто из нас не проявил особого благородства. Мы всего лишь люди. Но я думаю, нам и упрекать себя особенно не в чем.
– Извини. Мне просто нечего сказать. За последние несколько минут я потерял великую любовь своей жизни, а также единственное подобие сына, на какое мог надеяться. К такому не сразу привыкаешь.
– Ну-ну, давайте не будем разводить дешевую драму, – сказал Брокки. – Ты вовсе не потерял великую любовь своей жизни. Она до сих пор там, где жила много лет, – у тебя в памяти. Что же до потери сына, ты был бы говенным отцом, зато из тебя вышел отличный воскресный дядюшка, тебе достались лучшие минуты в обществе Гила, и при этом ты пропустил подростковый бунт и прочие обычные неприятности, с которыми приходилось справляться мне. В этом твоем клубе, случайно, не подают по-настоящему хороший ром, а?
– Уверен, что подают. Это как раз такой клуб. Сейчас я раздобуду у них бутылку, и мы сможем удалиться ко мне на квартиру.
Так мы и сделали, и отлично провели вечер, разобрав новое положение, в котором оказались, одобрили его и укрепили старую дружбу.
Странное дело: о Гиле мы говорили очень мало. Но это были самые настоящие поминки по нему.
С художественной точки зрения мои отношения с Нюэлой закончились совершенно неправильно. Начинались они как страстная любовь, и те студенческие годы, те часы в отеле «Форд» были для меня прекрасней всего, что можно найти в литературе или искусстве. Когда наша любовь продолжалась несколько лет после замужества Нюэлы, она пьянила меня не хуже, чем обман короля Артура его лучшим другом Ланселотом Озерным. Долг уступил страсти. Но развязка! Брокки что-то подозревает; вместо того чтобы поговорить со мной как мужчина с мужчиной, он нанимает сыщика; ссора на пониженных тонах в обеденной зале клуба «Йорк»; веселье на троих у меня в кабинете, все целуются со всеми и смиряются с тем, что по всем правилам искусства совершенно неприемлемо. Рука старости, злобной воровки, набрасывает погребальный покров на романтику юности, и я невольно увидел свою милую Нюэлу жилистым гинекологом с нитями седины в ирландских черных волосах. Увидел я и Брокки в благородной мантии учености – мужем, который разобрался с интрижкой жены довольно банальным способом и не проявил гнева. Поскольку Нюэла сказала, а Брокки согласился – так, словно она изрекла неопровержимую истину, – мне пришлось поверить, что женщина может совершенно искренне любить двоих одновременно. И что хуже всего, я увидел себя – не Ланселотом Озерным, ненавистным самому себе прелюбодеем, и решительно не шпрехшталмейстером, красующимся посреди арены, но проходной репризой в жизни двух людей, которых любил больше всего на свете.
С художественной точки зрения, наверное, мне положено было застрелиться, оставив записку: «Всех прощаю». Но меня совершенно не тянуло на самоубийство, и я наконец частично опознал в себе Тома Сойера, который требует, чтобы все происходило, как в романе, и осложняет простейшие дела нелепой подростковой книжной чепухой.
«Частично» – это слово очень важно. Романтичный безумец и глуповатый подросток – это отнюдь не вся личность доктора Халлы, который так успешно распускает и вновь ткет жизни других людей. Интересно, как часто это бывает? Поднеси Мудреца поближе к свету, и увидишь, что он одновременно и Дурак. В том, что мы знаем о жизни великих философов, можно найти более чем достаточно подтверждений.
АНАТ. В какой степени мы должны, взрослея, пересматривать свои взгляды на ту смесь сексуального влечения, эльфийских чар, простой похоти и одиночества, которую называем любовью? Ибо бессмысленно притворяться, что любовь не меняется с годами, если не успела умереть за эти годы. В прозе и поэзии об этом говорится мало.
У меня нет молодых пациентов. Хвори, которые я способен лечить, – достояние среднего и преклонного возраста. У молодых другие потребности. Но я много слышу о молодежи и читаю то, что молодые пишут сами о себе. Для них любовь – насколько мне известно, это слово еще не полностью вышло из оборота – потеряла практически всякое очарование, потому что телесное единение стало намного доступней. (Хотя, вероятно, все же не так доступно, как можно подумать, читая современную литературу.) Как знает любой ребенок, который нетерпеливо ждал рождественского ужина, околачиваться вокруг стола, вдыхать ароматы, доносящиеся из кухни, и нагуливать аппетит – гораздо большее наслаждение, чем собственно поглощать пищу. Подлинное удовлетворение аппетита дается только гурманам, а гурманы отнюдь не набивают желудок до отказа при каждой возможности. Итак, в наше время любовь частично – не полностью – утратила свою магию, чрезмерно упростившись. Но конечно, похоть и одиночество никуда не делись. И сексуальное влечение, хоть и облачилось в новые одежды (или вытащило старые из чулана), ничуть не ослабело.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Робертсон Дэвис Чародей [litres] обложка книги](/books/432189/robertson-devis-charodej-litres-cover.webp)

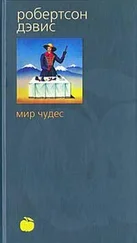






![Робертсон Дэвис - Убивство и неупокоенные духи [litres]](/books/435538/robertson-devis-ubivstvo-i-neupokoennye-duhi-litr-thumb.webp)
