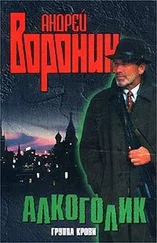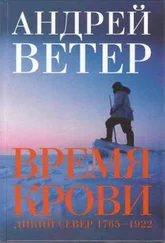Лицо Вики смутно белело.
Он не ошибся. Никак не думал, что настолько. Глупо. Глупо забывать, что у каждой медали две стороны, а у его избирательной эмпатии может оказаться побочный эффект — смерть наживую. Степан хрипло рассмеялся, воздух из лёгких карканьем вырывался сквозь немеющую гортань. Странно. Сердце ещё бьётся, основные рефлексы не угнетены, но суставы уже теряют подвижность, деревенеют мышцы…
Сколько это ещё будет продолжаться? Во что он превратится?
Кто знает…
Кто знает?!
Ветер в темноте зашумел, призывно застучал ветвями Илгун-Ты. Избушку в корнях было уже не разглядеть, лишь явственно чернел дверной проём.
Степан приподнялся на руках, озираясь. Идти он не сможет, нести Вику — тем более. Остаётся одно — ползти и тащить волоком тело на чём-то вроде… Вот! Отстёгнутый и аккуратно сложенный с утра полог от тамбура палатки: двойная пропитка, полиэфирное волокно… Он провозился минуты две, расстилая у тела полотнище. Голый живот Вики, к которому он прикоснулся, перекатывая скованное окоченением тело на ткань, казался тёплым. Обман. Ещё, возможно, под мышками, или в паху… Нет, это его собственные руки холодны, как вода в Кие. Степан завязал узлом края полога над головой девушки. Переполз в ноги, ухватил углы, примерился, потянул…
Да, не быстро.
Он потащил тело по прямой, ногами вперёд, прихватив у палатки подвернувшийся под руку фонарь. Плохо гнулась неповреждённая нога. Присвистывала по гальке ткань палатки, тальник шелестел в темноте, хрустели камни под каблуком, мелкая волна плескала на берег тихо, невидимо. Сырость плыла по-над берегом, постепенно пропитывая всё вокруг. Эскизы Оксаны, на которые о натолкнулся, отяжелели как лоскуты мёртвой татуированной кожи: человеко-звери, зверо-люди, фантастическое нагромождение линий и переплетение штрихов; безглазая голова с распахнутым ртом под нахлобученной изломанной крышей. Пахло мокрым песком и углем…
Степан посветил фонарём вперёд. Уже близко. Мох на стене сруба шевелился, провал двери казался шире. Опавшие иглы торчали между камнями, словно мёртвая трава, залитая запёкшейся кровью; застревали между пальцами. Подтягиваясь на локте, он непроизвольно сжимал ладонь в кулак, ломая сухой, рыжий тлен и почти не чувствуя уколов. Над головой, в темноте скрипело и перестукивалось. В проёме избушки покачивался полог из темноты…
Он сомкнулся за ними беззвучно, колыхнувшись затихающими кругами, замер, как замирает стоячая вода, забывая об упавшем камне навсегда. Степан полз от входа, пока не упёрся плечом в стену, и отпустил волокушу. Пальцы остались скрюченными. Он их не видел, не чувствовал. Просто умирающий мозг запомнил это ощущение — зажатой в горсти комок ткани, — и других не получил. Запах земли и хвои, мха и плесени стал сильнее…
Иссохшие просьбы, увядшие мольбы, полуистлевшие желания; нестройный, шепчущий сквозь время, хор призрачных голосов, скользящий в разорванных струнах надежд и упований. Они были тут, в темноте, свисая гроздьями, пучками, переплетаясь плотной паутиной из бесцветных тряпиц, плетёных веревок, шнурков, сморщенных ремешков, клочков пыльной шерсти, сваленных в невесомые и бесцветные нити, чьи концы чутко шевелились в воздухе, потревоженном их вторжением. Ему не нужно было зажигать фонарь, чтобы увидеть бесстыдно голые корни, бледно-жёлтые, словно кривые ножки огромных поганок, источающих ядовитый грибной запах…
Зачем он здесь? Он не помнил. Всё, что казалось ясным — двадцать, тридцать? — минут назад исчезло. Распалось разрушенными нейронными связями, переварено ферментами и смешалось в бессмысленную жижу, постепенно заполняющую черепной свод, по закону, с которым со смертью близкого человека, умираешь и сам.
Степан зажёг фонарь. Воздух засветился. Шевелящиеся тени заметались по мшистым стенам. Подношения раскачивались. Голые корни отливали слоновой костью. Тело Вики, прикрытое складками палаточного полога, шевельнулось. Он замер, сдерживая слабое дыхание. Нет, показалось. Что-то с глазами, хотя роговица живёт ещё семьдесят два часа после остановки сердца. В свете фонаря бескровное лицо девушки отливало серебром…
Разве он любил её?
Какая теперь разница? Её, или женщину, родившую его на свет. Любил со всей силой нерастраченной сыновней привязанности, и копившейся год да годом ненависти брошенного ребёнка…
Так или иначе, всё свелось к способности отдавать… Хотя бы и жизнь. Толку, правда, немного…
Читать дальше