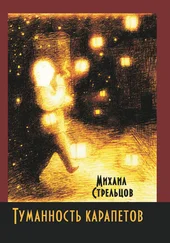– Что будем делать?
Маруся, скинув фуфайку, хозяйничала, собирая на стол. Холодильник подарил кусок колбасы, банку по-домашнему засоленных помидоров, сало, сыр, кетчуп и смёрзшийся уголок чёрствого батона.
– Время было голодное. Хлеба не было. И масло мазали прямо на колбасу, – улыбнулась девушка, вынимая килограмм масла из целлофана. – Давай пожрём. Потом видно будет. Чуть позже картошку пожарю. И мёда привезу.
Генка понял, как голоден. Предложение его полностью устраивало. Он просто-таки объелся солеными помидорами, а каждый жевок намазанной кетчупом колбасы прибавлял обожания кормилице. О женщины! Вас можно ненавидеть, но не любить нельзя!
Господь послал ему Марусю, иначе он так бы и сидел на табуретке, жалея себя и несовершенный мир. Но следующее предложение от уплетающей за обе щеки широкоскулой прелестницы предвосхитило весь золотой запас Центробанка.
– Сходим в баню? Помыться хочется. Затопишь?
Пока он качал и носил в баню воду, охапками таскал дрова по клубящейся дымке засланной пожаром, она пошла к дому Анчола, привела в готовность мотоцикл, вдоволь нагладившись по его красному баку. Будь у «Хонды» рожица, расцеловала бы – право слово! Приехала, привезла мёд. Молчун едва успел соскучиться. Из трубы в небосвод полетел дымок. Они сидели на крыльце, ожидая, когда баня, по словам Маруси, раскочегарится. Ели мёд, курили. Он, успокоенный, рассматривал красный шлем, повешенный на столбик ограды, усыпанную опилками завалинку, старенький телеграфный столб с одинокой тарелкой фонаря и мечтал пробыть здесь всю жизнь – на этом крыльце предбанника.
– Знаешь. Они не вернутся, – зачем-то сказала Маруся. Её лицо оказалось близко настолько, что хотелось рассматривать каждую веснушку и морщинку. Сколько их прибавилось, морщин, за последние три дня? Об этом не хотелось думать.
– Дед, – ему не надо было пояснять какой, – перед отъездом убрал в подпол все вещи. Почему в подпол? Даже веники с чердака снял.
– А здесь есть веники? – Генке захотелось попариться.
Но она не ответила, облизала медовые пальцы и сокрушённо потрясла головой.
– Это мой родной посёлок. Но никто не вернётся. Понимаешь, они уезжали на три дня! Даже собак не отвязывали. Смотри. Хлеб у будки валяется. Куда собаки делись?
– Нам хлеба не хватило, – недавно взволнованный до желания надраться, Молчун не хотел выходить из относительного покоя созерцательности.
– Чую, тебя не расшевелишь, – хмыкнула девушка.
– Только парком да веничком.
– Только?
– Есть что предложить?
– Сомневаюсь. Разве что сладкий тренажер для искусственного дыхания, – она потрогала губу кончиком пальца.
Молчун оценил новое предложение. Губы были тугими и тёплыми, терпкими от мёда и чуть кисловатыми от помидор. Девушка-полынь. Девушка-крапива. Но она внезапно прекратила поцелуи и надсадно закашлялась, сплюнула и, утирая выступившие слезинки, сказала:
– Точно прогреться не мешает. Подпростыла. Возьми лестницу. Слазь на чердак… Дядька веники там развесил.
Распаренные веники пахли мокрой пылью. Генка, задыхаясь, немилосердно отхлестал её горячей листвой, почему-то больше уделяя внимания белому полукругу попки, чем коричневой спине. За это возмутившаяся Маруся опрокинула на него ковш с холодной водой. Потом едва не подрались из-за куска мыла, в результате чего ловили его на мокром полу. Молчун победил, но отдал скользкий приз, заметив перекошенный болью, затравленный взгляд.
– Ожоги вспоминают, – сообщила она, осторожно проводя мочалом по красным пятнам.
Он наотрез отказывался от чужого исподнего, но перспектива шагать до дома голым, пусть никто и не видит, была менее заманчивой. Участковый носил одежду на два размера больше, поэтому Генка, проходя по двору, махал руками, словно собирался улететь и орал:
– Я, мать его, Каспер! Дружелюбное приведение!
На что раскрасневшаяся и какая-то упругая на вид девушка-полынь заливалась переливистым смехом.
Затем, в расправленной белоснежной постели он решился проверить упругость на ощупь. Взял её торопливо, словно не успеет, словно жизнь вот-вот закончится. И ещё раз – медленнее, привыкая, будто утверждая право на неё. Где-то уголком плавающего сознания понимал всё же – такое у него первый и последний раз. Подобная обречённость заставляла исступлённо продолжать, вырывая сладчайшие звуки – её стоны. Казалось – не кончится, не иссякнет могущество их соединения. И постель сжалилась над ними, провалив блаженство в глубокий сон так, что не заметили они перехода, уснули, переплелись телами. И долго спали, не слышали как огонь, ломая деревья, ревёт в предвкушении десерта, как чудовищный ковш относится к многолетним стволам, словно к спичкам, расчищая дорогу Хозяину.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Михаил Стрельцов Узют-каны [litres] обложка книги](/books/404322/mihail-strelcov-uzyut-kany-litres-cover.webp)
![Михаил Шолохов - Поднятая целина [litres]](/books/31288/mihail-sholohov-podnyataya-celina-litres-thumb.webp)
![Михаил Михайлов - Мастер рун [litres]](/books/33512/mihail-mihajlov-master-run-litres-thumb.webp)


![Михаил Парфенов - Голоса из подвала [litres]](/books/385279/mihail-parfenov-golosa-iz-podvala-litres-thumb.webp)
![Светлана Кузина - Эдуард Стрельцов. Честная биография [litres]](/books/394222/svetlana-kuzina-eduard-strelcov-chestnaya-biografi-thumb.webp)
![Светлана Замлелова - Эдуард Стрельцов. Воля к жизни [litres]](/books/397652/svetlana-zamlelova-eduard-strelcov-volya-k-zhizni-thumb.webp)