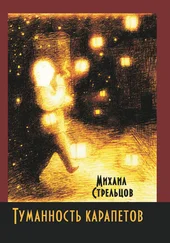– Поменяли сортир на гондолу, – Генка обмяк, плечи обвисли, волоча голову к груди.
– Что?
– Сама понимаешь! – на ней не следовало срывать злость, но под рукой больше никого не было.
Маруся не обиделась, слишком памятны были скребущие по стеклу чёрные присоски. Случилось самое мерзкое из предположений любимого. Неужели всё напрасно? Бесполезно?
– Придумай что-нибудь, – попросила она. Хотела добавить «пока не поздно», но противная цепь в горле помешала. Слёз не было, но глотать стало больно.
– Придумать? Что? – Генка развёл руками. – У меня в пистолете три патрона. Его уже и гранаты не берут! И тех нет. Только ракетой «земля-воздух» теперь.
Словно издеваясь, экскаватор исполнил коронную пародию на кузнечика и осмысленно шагнул к ним. Искривлённый глаз кабины окрасил стекло розовым, хотя, возможно, тут постаралось разбуженное солнце.
– По крайней мере, у него нет сапог-скороходов, – заметила Маруся.
– А это значит… – уловил идею Молчун, приятную идею, надо сказать.
– Значит, можем удрать не торопясь, – улыбнулась девушка, и за эту улыбку хотелось зацеловать её до икоты.
Утомлённый густой туман не хотел рассеиваться, растекаясь вдаль. Да они и не спешили. На первый взгляд, как бы обрубленные земными парами рельсы так и не заканчивались. Иногда по ним пробегала дрожь, это удаляющийся экскаватор методично продолжал преследование. Но туман спрятал и его, можно не оборачиваться. По краям железнодорожной насыпи росли полынь и крапива, чахлые стебельки протискивались сквозь гравий и обильно осыпались на шпалы, сбиваемые натруженными ногами Геннадия. Ветка была старая, рельсы поедала ржавчина, шпалы до седины выбелило солнце. Маруся то и дело пыталась эквилибрировать по рельсу, для поддержки туго обхватив руку попутчика. Её мешковатая фуфайка колыхалась, разгоняя молочную вязь тумана, а джинсы тонули в нём. Девушка как бы плыла над ржавым рельсом и чумазыми гроздьями полыни. И в какой-то момент Генка понял, что полынью пахнет туман и руки, и марусина фуфайка, и губы её, и тело. Обречённый на слепое ковыляние экскаватор становился дурным сном, призраком урбанистического проклятия.
Утренняя лёгкость напоминала распроклятый туман – он уже пробрался в голову, и невесомость становилась явью. Прекрасной рассветной явью, в которую следовало петь. Молчун затянул песню отчаяния противным, лишённым музыкальности голосом, но этот голос показался Марусе чистым, по-наивному вздорным, и тянуло подпевать.
Пыхтящий бессилием экскаватор елозил брюхом по рельсам, сминая их, волоча по откосу насыпи могучие ступни. Его страшно бесило, что две фигуры вдали с болтающимися пахучими фуфайками на плечах продолжали уплывать в туман, удаляя звуки бравадной песни:
«…где проносится поезд
Воркута-Ленинград.
Мы бежали с тобою
по железной дороге…»
Наследник же по прямой, по крови – если хотите, тот, кому полагалось вспоминать зэковский фольклор, Пётр Смирнов наугад шарахался от тёмных деревьев, путался ногами в переплетённых вьюном зарослях, пробираясь волчьими тропками вниз по склону. В отличие от Молчуна, забредившего теорией катастрофы, Пахан внимательно ловил каждое слово проводника. Ещё внимательнее следил за её пальцем, двигающимся по карте. Карте из рюкзака. Рюкзак принёс тогда он, Пётр. И сейчас карта находилась там. Автомат стал тяжёлым. Смирнов остановился, переводя дух. Кажется, за ним не гнались. Шум работающего экскаватора уже не долетал сюда. Первый марш-бросок по тайге принёс успех, поглотив приличное расстояние. Стало светать.
Пахан провёл ревизию рюкзака, выбрасывая ненужное, в основном – консервы. Ими он был сыт по горло. Открывать было нечем. Нож пропал ещё во время пробега до переправы. Нагнувшись, при тусклом свете блёклого неба рассмотрел карту, вспоминая водивший по ней поцарапанный палец. Расстояние имело значение. Пётр выдохся. Но горбатился не зря. Многое стало понятным. Есть сила, с которой ему не совладать, поэтому надо делать ноги. Отдых становился роскошью.
Подобной вялости он давно не чувствовал. Пожалуй, лишь когда понял, что заболел неизлечимо. Негодование не дало в то время раскисать и скулить, пока не определили в спецприёмник. Это всё – рак. Он слишком деятельно и настойчиво упрашивал взять его к шахтам, куда отбирали немногих. Но там можно было тянуть резину, на халяву хлебать водочку и жрать по-человечески. Козлы в мундирах не скупились. Петро знал, что отняло силы. Страх. Жуткий, отвратительный страх перед смертью. Даже болезнь не заставила его заглянуть в могилу. Даже огонь не свинтил жгучее желание жить. Наделённый непомерным здоровьем организм протестовал против мысли о смерти. Смирнов убивал, не думая, что обрывает нечто важное, становится причастным к извечным тайникам древних ритуалов, роднится с костлявой старухой с косой. Теперь же дума о конце, о его неотвратимой будничности высасывала из тела волю и жизненные соки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Михаил Стрельцов Узют-каны [litres] обложка книги](/books/404322/mihail-strelcov-uzyut-kany-litres-cover.webp)
![Михаил Шолохов - Поднятая целина [litres]](/books/31288/mihail-sholohov-podnyataya-celina-litres-thumb.webp)
![Михаил Михайлов - Мастер рун [litres]](/books/33512/mihail-mihajlov-master-run-litres-thumb.webp)


![Михаил Парфенов - Голоса из подвала [litres]](/books/385279/mihail-parfenov-golosa-iz-podvala-litres-thumb.webp)
![Светлана Кузина - Эдуард Стрельцов. Честная биография [litres]](/books/394222/svetlana-kuzina-eduard-strelcov-chestnaya-biografi-thumb.webp)
![Светлана Замлелова - Эдуард Стрельцов. Воля к жизни [litres]](/books/397652/svetlana-zamlelova-eduard-strelcov-volya-k-zhizni-thumb.webp)