Я так и не удосужился завести семейного врача, поэтому потащился к педиатру, наблюдавшему Тео с самого его рождения, – замечательному доктору с собственным кабинетом в 17-м округе. Он ценил мои книги и, увидев, как меня потрепала болезнь, пожалел. Он добросовестно приставил к моей груди стетоскоп и в приказном порядке отправил на рентген легких, заставив поклясться, что в понедельник я покажусь его коллеге-пульмонологу. Он пообещал позвонить ему и записать меня на прием.
Я сразу же поспешил в Парижский институт рентгенологии, прождал там два часа и вышел со снимком и с пугающим описанием состояния моей дыхательной системы.
С сумбуром в голове я сделал несколько шагов по скользкому тротуару на перекрестке авеню Гош и улицы Фобур-Сен-Оноре. Весь день было морозно. Теперь стемнело, и я жутко замерз. От усилившейся лихорадки меня качало, ощущение было такое, что я вот-вот примерзну к месту, превращусь в сосульку. В довершение всех бед я забыл дома мобильный и теперь никуда не мог позвонить. Затуманенным взглядом я пытался высмотреть в ночи свободное такси. Уже через две минуты я бросил это занятие и решил дойти пешком до площади Терн, где было больше шансов найти машину. Тумана не было, но непрерывный снегопад сильно затруднял движение. Парижу надо немного: снежный покров в два сантиметра толщиной – и вся жизнь здесь замирает.
Через сто метров я повернул направо, чтобы уйти от парализовавшей квартал колоссальной пробки. Узкая улица Дару, где я очутился, была мне незнакома. Серебристые хлопья, коловшие мне лицо, вместо того чтобы заставить повернуть назад, гипнотизировали и гнали навстречу золотистому сиянию на фоне грязного неба. Еще несколько шагов – и я открыл для себя посреди Парижа русскую церковь.
Я знал о существовании православного собора Святого Александра Невского, исторического места притяжения русской общины в столице, но никогда здесь не бывал. Снаружи храм выглядел маленькой жемчужиной в византийском стиле: пять башенок с куполами, увенчанными позолоченными крестами, походили на белокаменные ракеты, стремящиеся ввысь для утверждения небесной гармонии.
Собор притягивал меня, как магнит. Что-то – любопытство, надежда, обещание тепла – заставило меня войти внутрь.
Прямо у входа меня встретил сильный запах воска, ладана, дымящейся мирры. Постройка имела в плане греческий крест, каждая оконечность которого тянулась до небольшой апсиды с сужающимся кверху потолком.
Турист в собственном городе, я начал с изучения традиционного для православной церкви убранства: обилие икон, огромный центральный купол, как бы приглашающий воспарить ввысь, неописуемое сочетание суровости и слепящей позолоты. При всем монументальном, хоть и немного пыльном глянце, несмотря на лес свечей с колеблющимися язычками пламени, в храме царил полумрак и было безлюдно, гуляли сквозняки. Это был безопасный корабль-призрак, застывший среди волн всепроникающих смолистых запахов, заставляющих глаза слезиться.
Я подошел к величественному подсвечнику, озарявшему большое полотно в академическом стиле «Явление Христа при море Тивериадском». Полутьма способствовала сосредоточенности. Я не знал толком, зачем сюда пришел, но почему-то чувствовал себя вполне в своей тарелке. И это притом, что вера всегда была мне чужда. Я долго веровал в единственного бога – самого себя. Вернее, сидя годами за компьютерной клавиатурой, я принимал себя самого за бога. Говоря еще точнее, я бросил вызов богу, в которого не верил, строя иной – свой собственный – мир. Мне, правда, потребовалось для этого не шесть дней, а два десятка романов.
О да, я раз за разом мнил себя демиургом. Сталкиваясь с другими, я корчил из себя смиренного, не испорченного успехом романиста. Зато, сочиняя, я давал себе волю. Сколько я себя помню, меня всегда обуревало желание оживлять порождения своего воображения, бунтовать против реальности, показывать ей средний палец, перекраивать ее по своей прихоти.
По сути дела, писать значит именно это: ниспровергать упорядоченность мира. Исправлять своим сочинительством его несовершенства и абсурдность.
По-другому это зовется богоборчеством.
Но этим вечером, в этой церкви, дрожа от лихорадки, блуждая в своем бреду, я ощутил смирение, почувствовал себя под высоким горделивым куполом жалкой кляксой. Еще немного – и я поневоле пал бы ниц. Подобно блудному сыну, вернувшемуся в отчий дом, я был на все готов, лишь бы вымолить прощение. Чтобы вернуть Тео, я решился бы на любую низость, отрекся бы от чего угодно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Гийом Мюссо Жизнь как роман [litres] обложка книги](/books/391368/gijom-myusso-zhizn-kak-roman-litres-cover.webp)
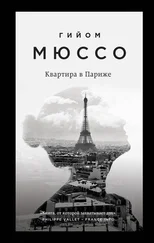
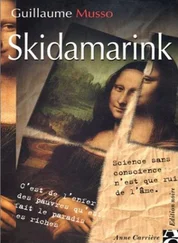
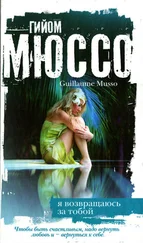
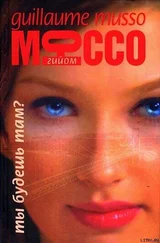
![Гийом Мюссо - Завтра [litres]](/books/394369/gijom-myusso-zavtra-litres-thumb.webp)

![Гийом Мюссо - Я возвращаюсь за тобой [litres]](/books/401254/gijom-myusso-ya-vozvrachayus-za-toboj-litres-thumb.webp)


![Гийом Мюссо - Тайная жизнь писателей [litres]](/books/407432/gijom-myusso-tajnaya-zhizn-pisatelej-litres-thumb.webp)

