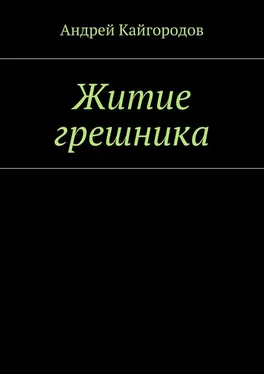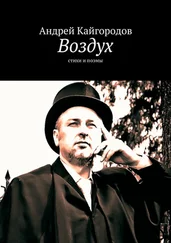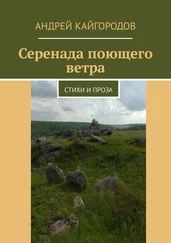Всю свою сознательную жизнь я только и делаю, что бегу, то от одного, то от другого. В конце концов осознаешь всю банальность, затасканность этой проблемы, этого кросса от самого себя, забега длиною в жизнь. Я никогда не думал, что моя жизнь будет такой, какова она сейчас. Я ощущаю себя тем зеленым школьником, молча взирающим на потолок, из соседней комнаты доносятся звуки телевизора, там мама и папа. А я не причастен ни к чему, я ограничен стенами, нет никого, только остро выраженное одиночество. Внутри тебя бездонный темный тоннель, а перед ним знак вопроса. Ответь, что, что ты хочешь, чего не хватает, почему дискомфорт, разъясни его природу? Нет ответа. Есть жуткое, тошнотворное ощущения пустоты, каждой клеткой. Носилки на дереве скорби.
К двадцати трем годам Ник уже слыл поэтом и писателем. Писал он в основном короткие рассказы и делал это на одном дыхании. Как только муза, гостившая у него, отправлялась на обед, так сразу молодой автор забрасывал свое произведение и уж больше к нему не возвращался, от чего бесконечно страдал.
– Послушай, Чех, – сказал Ник своему приятелю, когда они в очередной раз устроили вакхический праздник. На этот раз торжество было приурочено к выходу совместного сборника стихов, в котором приняли участие шесть начинающих авторов. – Ты пробовал роман написать? Я всякий раз берусь, но все как-то не могу до конца довести. Усидчивости, что ли, не хватает, а может тему не могу ухватить, не знаю о чем писать. Правда, есть кой-какие наметки.
– Никитушка, лапушка, почитай стишки, – повиснув на нем, как кошка, стала упрашивать, изрядно подвыпившая миловидная блондинка с роскошной грудью, – про меня, ты же читал в прошлый раз.
Ник посмотрел на нее исподлобья слегка осоловелыми глазами, полными нескрываемой ненависти.
– Была ли ты прекрасна?
Возможно и была.
В утробе своей мамы,
Что бросила тебя.
В сухих объятьях братца
Тщедушного козла
Или под телом пылким
Родимого отца,
Или когда учитель
Срывал с тебя трусы,
Потом, когда пятерки
В дом приносила ты.
А ныне твое тело
Давно уж ждет земля…
Дальше сама досочиняй.
– Ты идиот, – пристыженная и оскорбленная, она покинула кухню и растворилась в безумстве происходящего, в комнате, где весь остальной народ бурно отмечал презентацию книги.
– Ты чего, Ник, что случилось?
– Не знаю, притомился. Ну, что скажешь по поводу романа?
– Послушай, на кой он тебе нужен? Куда ты с ним? Ну, напишешь, и что дальше? Печатать? – где бабки, к тому же, насколько я тебя знаю, ни детективов, ни фантастики ты не пишешь. Роман про любовь? Не смеши меня. Чего тебе надо, ты пишешь рассказы, ну и пиши себе. Короткое, емкое произведение легче продается, быстрее пишется, ну и все что из этого вытекает.
– Да хрен бы с ней, с продажей, с рассказом, с книгой. Сейчас не напечатают, напечатают потом, потом не напечатают – да и хрен бы с ним. Пойми ты, важно то, что ты написал роман, испытать это чувство опустошения, радости, усталости и всего прочего. Вот в чем дело.
– Не знаю, куда-то тебя уносит. Давай-ка лучше выпьем.
Водка приятно обожгла их пищеводы и постепенно стала всасываться через желудок в кровь. Чех запил пивом и закурил сигарету.
– Ты знаешь, Ник, у меня несколько иной кайф. Я наслаждаюсь самим процессом. Меня прет, когда я пишу, а после завершения возникает пустота, которая слегка обламывает. И всегда после этого тянет просто нажраться, да трахнуть кого-нибудь. Вот такие дела. Кстати, ты не будешь возражать, если я Верочкой займусь, а то ты ее немного подобидел, глядишь приласкаю ее, успокою?
– Да, да. Иди в ванную, я скажу, чтобы не тревожили.
Чех удалился, а немного спустя его силуэт и изящное тело пышногрудой красавицы проследовали мимо кухни в ванную комнату.
– О, ванная комната, – произнес Ник, погрузившись в хмельные мрачные думы своего безумия.
Занятия онанизмом с собственными мозгами вряд ли помогут на пути в поисках истины.
Ник налил еще полрюмки и выпил залпом.
За окном брезжил рассвет, стирая своей призрачной резинкой черноту ночи.
– Мне двадцать пять лет, – произнес Ник в пустоту гнетущего одиночества кухни, – и что из этого следует? Ничего. Нет работы, денег, жены, семьи, любви, ничего нет. Все же нельзя так пессимистически, что-то ведь в конце концов должно быть? Да, должно. И даже более того, пожалуй, что есть – пустота и тошнотворное одиночество, больной желудок, страх перед будущим и прошлым, ненависть к себе и людям, и желание. Да вы, батенька, при всем негативизме оценок не перестаете оставаться оптимистом. Желание – это явно эрос. Не знаю, не знаю. Желание может проявляться и в несколько ином ключе, например, как стремление к танатосу. Где же здесь зарыт оптимизм? Как же где – желание и стремление. Не думаю, что желание и стремление смерти так уж оптимистично выглядит, да и само желание и стремление, как некие душевные позывы, мне кажется, не показатель полярности человеческой натуры. А что же тогда показатель? Я думаю, что отношение к жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу