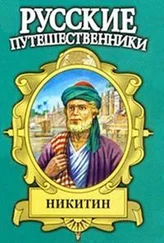Однако минуту спустя зрачки адаптировались, но лишь настолько, чтоб различить очертания холмиков шлака слева от входа, а за ними чуть далее — контур уборной.
Куча угля справа казалась отвердевшим фрагментом тьмы. Было безветренно.
— А вдруг убежит? — глухо, как сквозь густой плотный туман, донесся гундосый голос безносого.
— Да куда же он убежит. Кочегарка на нем. Не оставит же пост пустым. Разморозит систему — от начальства достанется. Да и перед собой неудобно: а вдруг мы всего лишь глюки.
Что-то сверкнуло на фоне досок уборной, чиркнув дугой.
— Что делать с ним будем?
— Организуем День Гнева. Ужо покажу ему Рождество.
— Что ты! Сережечка! А может, товарищ не виноват?
Сверкнуло еще раз, но теперь чуть правее.
— Адвокаты нашлись! Плеваки! Плевал я на этих Плевак! — неизвестно отчего рассердился Сережечка.
— Ты не плюешься, ты брызжешь слюной.
— Тоже мне, херувим хренов. Невинный, мол…
— Не брызжи, пожалуйста.
— Зачем тогда увязался со мной? Остался бы с носом.
— Я думал, испугаем и всё.
Долго пребывать в постоянном испуге даже самому боязливому существу невмоготу — даже если бы он от своей боязливости кайф испытывал. Испуг Павла, наблюдавшего две светящиеся перекрещивающиеся струи не то чтобы глубже стал, но сменил качество. Это был врожденный страх каждого русского, поколениями населявшего деревянные города, перед пожарищем. О том, что моча после коктейля пожароопасна еще Сережечка говорил, да и наглядно было видно уже: в снегу что-то тлело — тряпка или обломок мебели.
— Да и она на него указала, раз явилась ему.
— Тоже ошибиться могла.
— В таком случае придется пожертвовать истиной ради торжества справедливости. Эй, кочегар! — крикнул Сережечка. — Кочегар-р-р!!!
Но Павел не отозвался, неотрывно глядя, словно завороженный, как одна из светящихся струй коснулась стены уборной, и пламя тут же охватило ее хлипкий дощатый бок.
— Кочегар! Выходи!
— Выходи, подлый трус! — подхватил безносый басом и безо всякой гнусавости.
— Тута вас додж дожидается!
Павел спрятался за косяк, соображая, насколько велика опасность возгорания котельной, а когда решил, что непосредственной нет, и опять выглянул, то уборная уже полыхала вовсю.
— Какая солнечная ночь! — молвил Сережечка, подняв взор к небесам.
— Кажется, кто-то из нас сортир подпалил, — сказал безносый, хладнокровно застегиваясь.
Если оба приятеля проявляли полное спокойствии и бездействие, то внутри огня что-то происходило. Словно огонь обладал оптическими свойствами, словно был сквозь него виден мир иной. И тот мир был клокочущей клоакой, а не благостным безмятежьем — вроде ужина с женщинами, о котором Данилов твердил. И то, что внутри огня клокотало, был тоже огонь, обрамленный черной от копоти кладкой — сводом печи или топкой иных котлов. Павлу вдруг до зуда в руках захотелось поворочать в ней кочергой, но подступить к нему он никогда б ни за что не решился. Этот первоначальный очаг порождал чудовищ.
Языки пламени, от него отрываясь, принимали причудливые очертания — драконы, хищники, рыжие дьяволята, головы фурий, горгон — и продолжали жить как самостоятельные существа, населяя пространство вокруг котельной, передвигаясь порой настолько стремительно, что оставляли после себя светящийся след. Порхая, резвясь, кромсая сумрак, накидываясь друг на друга, они то сливались в более громоздких и гротескных существ, то распадались на искры, и эти подвижные множества, словно рои насекомых, включались в состав инфернальной фауны.
Искринки вспыхивали и гасли. Борисова пробирала стужа. Треск пламени, хлопки вспышек, вскрики приятелей. Только эти разновидности звуков сопровождали огненную оргию.
Вверх взвилось что-то круглое и слепящее и повисло под сводом небес, дурача ночь подобьем солнца. Один из фантомов, в облике адамовой головы, подлетел так близко к Борисову, что едва ему брови не опалил, и дохнув жаром, тут же рассыпался искрами, словно иглами жал. Павел еле успел захлопнуть дверь, отрезав стужу и ужас.
Ситуация накалялась. Мозг запаниковал, запульсировал, мысль забилась в поисках выхода.
Кто бы ни были эти приятели — волшебники или мошенники — получалось у них достоверно. Особенно у Сережечки. Из телевизора жабу соорудил. Но Павел уже понимал, что не удастся ему убедить себя в естественности происходящего, выдать все то, что творится, за бутафорию и буффонаду, за безвредное волшебство, ибо каждой клеткой, каждой кожной молекулой ощущал потусторонний ужас происходящего.
Читать дальше