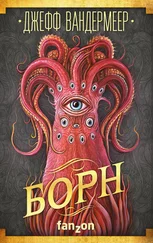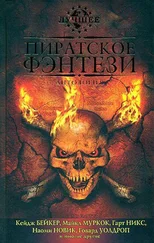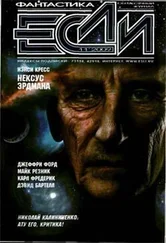Когда-то вы были близки, связаны тесными узами, а теперь — точно неприкаянные острова, обособленные планеты, летящие в разные стороны, каждый сам по себе и вполне доволен … Нет, это не праздный солипсизм, раз на него уже лег неверный отсвет правды. Города открестились от городов и заняты самопоглощением. Правительства раздробились на осколки осколков. Развлечения — порознь. Приключения — в одиночку.
Наблюдая, как ночь вторгается в город и гасит последние блики заходящего солнца на стекле и стали, ты ощутила Ника в темных прогалах между строениями: он был где-то там внизу , среди хаоса, что выглядел с высоты семьдесят пятого этажа здания Барстоу так методично, так рационально.
А что тут думать: еще одна битва с ветряными мельницами, какая-нибудь сомнительная афера от искусства, замешанная на неискренних улыбках и рукопожатиях. Со временем брат обязательно явится, потрепанный и удрученный, но готовый сражаться снова, продать еще немного себя — своего «Живого» творчества — и впутаться в очередную сделку с алчной галереей. И сомневаться нечего.
Да уж, чего сомневаться… Ты хорошо его знаешь. И даже привыкла к новому Нику: заморская одежда («Может, устроишься модным дизайнером?» — шутила ты) и эта игра в так называемого сленг-жокея как способ самовыражения, словно это могло помочь с торговлей голоискусством. Но даже он должен был сознавать — признавать, — что все сильнее отстает от желторотых выскочек и не сумеет их обойти. Ты, конечно, пыталась урезонить его согласиться на роль программиста вроде себя — и с охотой поделилась бы премудростями своей работы, — хотя бы на время, пока не оправится после того налета. Это дало бы ему возможность расквитаться с долгами, а он и тебе задолжал кое-что. Но брат ответил отказом: «Я же там изведусь от скуки, не помру (если бы!), а именно изведусь».
Потом ты прошла в ванную комнату, уставилась на допотопное зеркало, отбросила голограмму, и вот уже вас стало четверо: двое пристально смотрели в зеркало на двоих других. Нахмурив лоб, ты видела перед собою Ника. Он походил на тебя. Превосходил. Пытался что-то сказать. Как это получается, что голограмма выглядит живее реального человека?
Ты по-прежнему слышишь эхо гортанных фраз, но не желаешь заканчивать их, ибо они страшат и воняют кровью. Это уже не создания Ника, который тебе знак ом, который любит район Канала за многослойные разговоры, за разного рода сделки, которые там совершаются, за непостижимую магию, которую не так-то просто излить словами.
«Вот он, предел Живого Творчества, — втолковывал как-то брат, раскрасневшись от возбуждения. — Реплики громоздятся друг на друга, и эти слова, оттенки слов… Если б только выразить это все в г олах или керамике, я бы считал себя зверски гениальным».
Да, но гением тут и не пахло. Гений не стремится к совершенству, он… безыскусствен. Впрочем, бывали минуты, в особенности пока вы жили вместе с Шадрахом, когда брат загорался, словно ваша любовь придавала ему вдохновения, когда в который раз ощущалась его уникальность, и если ты олицетворяла для Шадраха красоту во плоти, то Ник воплощал ее в творчестве.
А потом он, по обыкновению, сбивался с шага и снова пытался, пытался, пытался, так что ты проникалась терзаниями брата не меньше его самого. В обществе гениев Ник расцветал, охотно травил разные байки. Разве так уж глупо думать, что, будь у брата побольше времени, он мог бы родить небольшой шедевр, нечто, что жило бы на Земле и после его смерти?
«Он и сейчас может», — напоминаешь ты себе, но разум одолевают химеры, призраки фраз, и каждая уличает тебя во лжи.
Фразы и воспоминания…
* * *
Вот Ник смеется над маленькой тварью, которая, пошатываясь, бредет по полу в гостиной. Родители на работе, уроки в школе только что закончились, и пневматические коконы благополучно доставили вас домой. Брат разложил на кухонном столе набор бионера, словно произвел посмертное вскрытие стального насекомого. Ты сидишь на кушетке напротив и смотришь, как вулканическими судорогами пробегают по тельцу животного тяжелые вздохи. Ножки существа трясутся, из горла вырывается жалобное мяуканье. Это котенок, но у него многофасеточные глаза, пять лапок, хвост, как у ящерицы, а самое мерзкое — на макушке растет человечье ухо, в котором извивается темно-красный язык.
Однодневка. Невообразимо изуродованные органы торчат по бокам наружу. Котенок уже не пытается никуда идти, он только горестно дрожит; из невозможных глаз текут кровавые слезы. И несет от него, как от раздавленного гнилого фрукта.
Читать дальше