У гастронома, в витрины которого были вставлены фанерные щиты, стоял парень и под гитару пьяным голосом тянул незнакомую песню.
Струи дождя непрестанно играют
На крышах домов и на тоненьких вербах,
И в вышине, на миг замирая,
Носятся тучи под бешеным небом.
Черный асфальт, как безумное небо,
Тучи, как лужи, несутся беспечно.
Все, что есть в мире — безумнее бреда,
Все, что есть в людях, как мир, бесконечно.
Вот она, поэзия двадцать первого века, подумал я.
Меня обогнал странно одетый человек с седой бородой. Он был в длинном грязном пальто и домашних тапочках с меховой оторочкой.
На голове ненормального бородача строго горизонтально помещалась военная фуражка, по околышу которой белой краской была выведена надпись — "Подземный космонавт". Дивный прохожий скрылся в дверях "Чайной".
Что-то, — возможно, созревшее внутри желание общения, — потянуло меня за те же двери. Я вошел в помещение и сразу вспомнил пивные моей далекой молодости. Дым коромыслом, матерщина, кислый запах плохого пива и духота. Я чуть было не повернул назад.
— Андреич! — услышал я крик.
Саболыч?!
— Андреич, друг! — орал он. — Двигайся, ребята! Двигайся, кому говорят, не то ка-а-ак боксану!..
За круглым высоким столом стояли трое. Кроме Саболыча, были: успевший занять место у стены изумительный пешеход со странной фуражкой и… Викжель!
— Вот так встреча, — расплылся он.
— Да вы, никак, знакомы? — удивился Саболыч, поглядывая попеременно то на Викжеля, то на меня.
Седобородый наполнил стакан и придвинул его ко мне.
— Лопатенко, Николай Александрович, — представился он, — бывший профессор Московского университета…
— Андреич, ты где пропадал? — спросил Саболыч.
Я замялся.
— Андрей Андреевич у нас путешественник… — усмехнулся Викжель. — А ты не приставай к человеку! Пусть сначала выпьет…
Все подняли стаканы.
— За что пьем? — Викжель вопросительно завертел головой.
— За Советскую власть! — рявкнул Саболыч.
Все чокнулись. Саболыч одним махом опрокинул стакан в глотку и добавил тихо:
— Хер на нее класть!
— А почему вы в тапочках, профессор, — поинтересовался я, жадно закусывая бутербродом с килькой.
— Он пошел в понедельник на прошлой неделе выносить мусор, а тут революция… — объяснил за него Саболыч и радостно заржал.
— Может, его жена выгнала? — предположил Викжель.
— И все же? — продолжал допытывать я.
— Все значительно проще, — спокойно ответил странный бородач, жуя сухарик, — во-первых, тапочки — это единственная обувь, которая мне не жмет, и в них мне мягко, удобно, а во-вторых, в домашних тапочках я чувствую себя везде как дома…
— Его принимают за сумасшедшего… — встрял в разговор Саболыч.
— Пусть уж лучше считают сумасшедшим, чем врагом народа…
Профессор налил по второй.
Саболыч повернулся ко мне.
— Ты представляешь, Андреич, у меня протез сперли…
— Как это?..
— Зазевался, понимаешь, уснул… просыпаюсь…
— Что, воры в дом забрались?
— Да нет… Просыпаюсь, это, я во дворе, на скамейке, а протеза-то и нет. Тю-тю… Свистнули, падлы…
— И как же ты теперь?
— Да вот… — сказал он грустно и указал на костыли, прислоненные к стене. — Черта с два теперь женишься! Кому нужен инвалид? Я, вообще, щас, ребяты, без баб обхожусь.
— Вот это ты напрасно, — укорил его Викжель. — А я всю жизнь с женщинами…
— Помолчи. Значит, я без баб…
— Это ты помолчи! Я вам вот что скажу: главное в жизни — это женщина. И не просто женщина, а женщина в постели. Подозреваю, что даже рафинированные эстеты…
— Непонятно говоришь… — поморщился Саболыч.
— Рафинированные эстеты…
— Непонятно!..
— Ну, утонченные любители изящного!.. Как это я пью с тобой, Саболыч, темный ты человек? Так вот, эти самые эстеты, публично парящие над примитивным человечеством и призывающие нас к глубокомысленным философским раздумьям, на самом деле только о бабах и думают. Наслаждение, которое мы получаем от близости с женщиной, стоит выше всего. Выше патриотизма, выше творчества, выше дружбы… С особой силой начинаешь это понимать, когда тебе переваливает за пятьдесят, а у тебя еще стоит, как у солдата срочной службы…
— Вот это понятно, — произнес Саболыч и обвел нас сияющим взглядом.
— Дурак ты, Саболыч! Слушайте дальше. Природа человека определена Богом, и всепобеждающее желание обезумевшего от страсти индивидуума вонзить свой член в трепещущее, влажное и нежное лоно оказывается сильнее всех этих наших дурацких рассуждений о смысле жизни, бессмертии, бесконечности и прочей чепуховине, которыми мы забиваем себе голову с юности… О любви надо думать, о женщине!..
Читать дальше


![Адам Сен-Моор - Четвертая пуля [Похищение. Четвертая пуля. Пусть проигравший плачет]](/books/84002/adam-sen-thumb.webp)

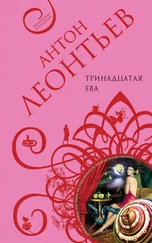
![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](/books/102382/karter-braun-tom-13-pulya-dum-thumb.webp)
![Р. Гордон - Пуля для звезды. [Пуля для звезды. Киноманьяк. Я должен был ее убить. Хотите стать вдовой?]](/books/102748/r-gordon-pulya-dlya-zvezdy-pulya-dlya-zvezdy-kinom-thumb.webp)

