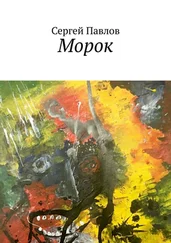— Что ты там про мостики плёл, а? Жалеешь, что не ушёл в свою глубину? Да? Эх, Олег! И ты туда же! Я бьюсь за то, чтобы вас вывести. Завёл вас? Да! Но я, к ебени матерям, мозг свой ем, чтобы Вас! Живыми! Домой! А ты мне про переходы толкуешь! Трое где-то плутают, давай ещё ты уйди! Будет картина маслом, а мне больничный халат и иждивение в дурке… Ах, да! До дурки ещё добраться надо…
Вадим кипел и в то же время удивлялся, что недостаточно сердит. Обычно его красноречие сводилось к трём понятным выражениям, но зато каким. Старшины учились у него, а он учился у Мишина. Мат был и остаётся движущей силой в армии, а в военных условиях он ещё хороший доктор. Когда по живому ковыряются ножом в ране, чтобы достать пулю, на язык приходят такие замысловатые коленца…
Пар Вадим спустил, поистратив, пожалуй, малый минимум из богатых архивов великого могучего, но тут уж сказывалось долголетнее отсутствие практики, женское окружение и вообще… Пока кипел, Олег непроницаемо глядел в огонь, молчал. Потом повернул голову к берёзе. Вадим вскинул руку: шестнадцать тридцать шесть. Три минуты он выплёскивал негатив. Итак, через минуту — может быть. Через четыре — момент истины стопудово. Он перевёл дух, и сипло выдавил:
— Извини, Олежка! Нервы… — Он откашлялся, стараясь не смотреть Олегу в глаза. — Время… Счас Люся… Должна…
Олег понимающе кивнул, тонко улыбнувшись. Стали ждать, покрывшись одеялом молчания. Развернувшись к берёзе. Огонь трещал свежезакинутым деревом. Смола, вылезая из пор, шипела, закипая, а люди, не обращая внимания ни на костёр, ни на шум предзакатного леса, сосредоточенно глядели на криво сросшуюся берёзу.
Зорин опустил глаза на часы. Что за чёрт… Минутная не оторвалась от тридцати шести. Так ли? Он объял зрением весь циферблат и выматерился. Секундная стрелка остановилась. Часы, твою в трендель, некстати остановились. Вот так, взяли и остановились. Без видимых причин, ударов и сотрясений. Вадим потряс с силой правую руку, ожидая, что такое действие реанимирует стрелки. Пустой номер. Часы надёжно встали.
— Блядь! — Повторился Вадим. Уход последней дамы отвязал в нем сквернослова.
— Встали? — Спросил Олег. — Странно это. За минуту и встали.
— А что здесь не странно, Олег? Назови хоть что-то, что не было бы странным! — Он с силой тряхнул рукой, подумывая, а не снять ли и не. нуть их об пень. Затем пришло озарение, что часы встали, но время то идёт, и сейчас по меркам должны выйти все сорок минут. Без двадцати пять. Лимит отведённого Люсе времени закончился.
— Пятнарик всяко пролетел. Да? — Озвучил его думку Олег.
Вадим шумно выдохнул и в порыве встал, не зная, куда себя деть. Предчувствие оправдывалось. Губы отяжелели, вытягиваясь в нехорошие слова. Вадим их с трудом гасил, выходило трудно: слова превращались в сердитое цоканье.
— Погоди злиться, Вадим! Ты же сам ей накинул сверхоца… Значит исходи из своего условия! Ждём полчаса, мало ли там… в порталах… случается.
Олег был прав, но чертово предчувствие не отпускало. К сердцу подкатило дурное, а под ложечкой засосало как в ожидании жуткого, а точней сказать, зловещего. В тринадцать лет Вадька посмотрел свой первый фильм ужаса. Тогда по стране шумели видеосалоны, выбрасывая на кинорынок голливудские поделки с гнусавым и бубнящим переводом. Шепелявые дикторы не могли испортить зрелищность американских картин. Зритель потоками валил на яркие взрывы, каратэшные драки и восставших мертвецов. Вадька, поднаторевший в боевиках, решил разнообразить жанры и впервые «ужаснуться». Видик назывался «Дрожь» и повествовал о жизни непростого червяка, который неведомо как (об этом в фильме не говорится) ухитрился достичь гигантских размеров. А раз такое дело, гиганту стало скучно в земле, и стал он промышлять охотой на людей, поскольку люди ему были как муравьи или воробьи, не в этом суть… С высоты сегодняшних лет фильмец жалкая потуга создателей взять на эффекты. Но неискушенному мальчику выползающая слизистая масса, обвивающая орущих от страха людей, показалась достаточной, чтобы ворочаться пять-шесть ночей и прислушиваться к ночным звукам. Дедушка обузнав об этих страхах, рассердился, накричал и запретил ходить на похабщину. Вадька конечно перестал, но впечатления с того первого островка сохранились. Почему вспомнилось об этом сейчас, вероятно сработала ассоциативная память: преддверие надвигающегося и прислушивание к собственному стуку сердца. Мороз тогда и мороз сейчас. Родственный по сути, похожий по характеру.
Читать дальше
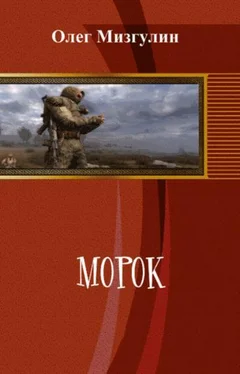





![Екатерина Горина - Морок [СИ]](/books/393794/ekaterina-gorina-morok-si-thumb.webp)