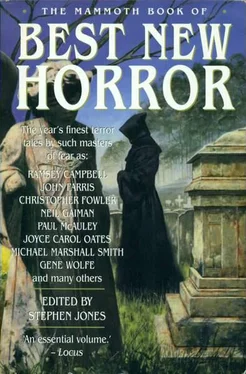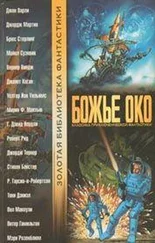Страшная морда ревенанта дергается в ее сторону, девушка пронзительно вскрикивает и пытается отползти. Бритоголовый, совершенно не замечая видения, пинает ее в бок и пнул бы еще раз, если б я не остановил его, вытащив клинок из своей пустотелой трости.
— Блефуешь, сука, — говорит громила, глядя на ярд гравированной стали в моей правой руке.
Я шагаю ближе и коротким ударом перерубаю пуповину, что привязывает сумкореза к ревенанту. Он всасывает отрубленный кончик, словно длинную макаронину, и поворачивается ко мне. Какими бы человеческими качествами он не обладал когда-то, они исчерпались очень давно, оставив только слепой, бездонный голод. На краткое мгновение, когда я, угрожая своим клинком, неудачно пытаюсь отогнать его, он проникает ко мне в голову, и меня сотрясает внезапная, замораживающая головная боль. Тварь отступает и смотрит на меня, потом ее крошечная головенка с широкой пастью, наподобие глубоководных рыб, что сплошь только зубы и брюхо, дергается в сторону и щелкает зубами на сумкореза.
— Твой дружочек, — говорю я, отмахиваясь клинком от быстрых, змеящихся движений ревенанта. — Он хочет то, что осталось от твоего дружочка.
Громила, все еще совершенно не замечающий драму, думает, что я угрожаю ему, и отвечает, что сейчас задаст мне хорошую трепку, если я не уберусь ко всем чертям. Подружка дергает его за руку и говорит, чтобы он все это бросил, через секунду он плюет под ноги и говорит, что если увидит меня еще раз, то заставит съесть мой поганый меч, и, получив сатисфакцию, позволяет увести себя прочь.
Ревенант делает выпад на сумкореза челюстями, которые теперь раскрываются широко, как у акулы. Я хватаю ее запястье, отрываю комковатый остаток хвоста импа и швыряю монстру, который цапает безделицу в полете и удаляется быстро, как молния. Я подбегаю к мосту, гляжу через парапет и вижу, как что-то слабо светящееся и очень длинное плюхается в черную воду канала.
Сумкорез сидит посреди дороги, глядя, как я иду к ней. У меня пошла носом кровь, после того, как тварь на мгновение побывала у меня в голове. Я промокаю кровь платком, складываю его, протягиваю руку и говорю девушке, что самое лучшее для нее — пойти со мной.
* * *
Хотя она явно испытала большое потрясение, девушку благословляет упругость юности, и вскоре она начинает оправляться и принимать свой, по-видимому обычный, вызывающий вид угрюмого неповиновения. Из ее более или менее односложных ответов на мои расспросы я узнаю, что зовут ее Миранда, что ей шестнадцать, что она живет поблизости с матерью в муниципальной квартире, что с другой девушкой, Лиз, они соседи, и что они оставлены сами на себя, потому что их матери вдвоем уехали на отдых.
— Этот тип, с которым она ходит, хочет ее только ради одного, — говорит Миранда. — Вот почему…
— …ты хотела ей помочь. Здесь нечего стыдиться. Заботиться о других превосходное качество.
— Я сглупила, — бормочет она. — И меня пнули по голове.
— И ты потеряла своего дружочка, но я уверен, что довольно быстро ты найдешь другого.
Она глядит на меня из-под козырька бейсбольной шапочки. Она маленькая, тощая и уже ожесточенная дорогами мира: она того типа, что не изменился с тех пор, как римляне впервые сделали Лондон столицей самой северной части своей империи, дитя, «выросшее на камнях», в броне струпьев и шрамов, наросших на душе, в броне преждевременного цинизма.
— Ты давно видишь то, что не видят другие? — спрашиваю я.
— Не понимаю, о чем вы. Даже не знаю, кто вы такой.
— Меня зовут мистер Карлайл. Я имею честь быть консультантом по вопросам умерших.
— Вроде из тех, кто хоронят людей?
— В каком-то смысле. А иногда я также и частный детектив.
— Ага, вы слегка походите на этого, как его зовут? На Шерлока Холмса. Это настоящий меч? Куда мы идем?
— Мой клинок из дамасской стали и очень древний. Говорят, что такие клинки после последней перековки закаливали, пронзая тело раба, хотя я сам не верю в подобные фантазии. В любом случае он черпает свою силу не только из одной стали, вот почему я смог тебе помочь. Я получил его сотню лет назад — ты не веришь, но это правда. Насчет того, куда мы идем, что ж, вот мы и пришли.
Мы стоим в начале короткого, мощеного камнем переулка. Когда Лондон был не более чем скопищем пастушеских лачуг, теснившихся на расчистке на холме, ныне называемом Ладсгейт, это место было началом тропы, которая связывала две священные рощи. Сейчас тропу перегораживает кривой маленький домишко, первый этаж которого занимает кафе. Теплый свет падает из большого стеклянного окна на пластиковые столы и стулья, расставленные на каменных плитах тротуара перед ним. Неоновая вывеска хвастается, что кафе открыто в любое время суток.
Читать дальше