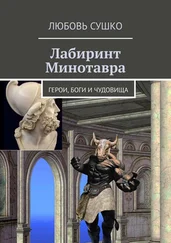…буду звать тебя Ариадной, это мой счастливый миф. Мне безразлично, как тебя звали раньше. Мне безразлично, каковым было и мое имя, ибо имя мое Червоточина, и теория моя – о червоточинах и сингулярностях. Теория – это я, я – это теория, а ты – моя путеводная нить. Мне не обойтись без семьи, ведь даже и особенно демиурги так одиноки. Мне плевать на твое мнение, ты будешь моей и только моей. Неужели тебя не прельщает стать возлюбленной величайшего в истории? Да, конечно, я – сумасшедший. Того, кого ты сейчас слышишь, нет, это симулякр, социальный симулякр, тогда как мое истинное Я по-прежнему скитается в лабиринте теории, словно Минотавр в поисках жертвы. Можешь заниматься чем угодно, хоть лягушками, хоть змеями, меня это не интересует. Главное, чтобы ты всегда была рядом, мы с тобой – квантовая пара, неразлучны даже в бесконечности, пространство и время нам не преграда, ты – это я, я – это ты…
…я вдруг понял – мир вокруг, Солнечная система, Земля, Галактика, метагалактика, мироздание, все-все, что составляет бытие, на самом деле создано мной, мной одним, понимаешь. Это прозрение столь захватило меня, оно так очевидно, что невероятно – как я не подозревал об этом, вот что значит пресловутая забывчивость и рассеянность творца науки. Осознав себя творцом всего сущего, я понял, что могу перетворить вселенную, переделать разумных существ. Говоришь, во мне живет чувство обиды на то, что сделали с нами, примарами. Это чепуха, мелочи. Творцу не стоит на них обращать внимание, мне под силу сделать разумных тварей из чего, из кого угодно, хоть бы из твоих земноводных. А чтобы они не совершали ошибок, чтобы у них не болела совесть, достаточно воплотить в материи те феномены сознания, которые само общество склонно объявлять химерой – совесть, здравомыслие, справедливость. Взять какой-нибудь планетоид и заселить подобными созданиями, можно даже зажечь для них одну из планет-гигантов…
Затем все опять сместилось. Не было ни переваривания, ни метоза, ни иных физиологических ассоциацияй. Странное ощущение явилось им на смену. Будто Телониус стал частью мыслительного процесса. Именно так – он был не мыслью, конечно же (хотя почему бы и нет?), но частью мысли, ее посылкой, природным основанием, феноменом. Мыслительный процесс скопировал ее, очистил от любых физических коннотаций, обратил в нечто, что даже энергией не назовешь, ибо мысль не содержит в себе ничего, что входит в знаменитый массово-энергетический эквивалент. Даже квадрат скорости света к ней неприменим, сама по себе мысль распространяется безо всякого света, и тем более его квадратов. Что стремительнее мысли? И не в том ли трагическая ошибка цивилизации – она пытается уловить мысль в тенета алфавита, свитка, глиняной таблички, а затем и вовсе вступает с мыслью в мучительное и заведомо проигрышное единоборство, дабы довлеть над мыслью, подчинить ее внешним обстоятельствам грубо материального мира.
И мысль длилась, длилась, длилась, выстраивая точную картину бытия-без-бытия. А Телониус стоял, прислонившись плечом к косяку двери, сложив руки на груди, и вслушивался в заполнявшие комнату звуки, понимая – что-то в них не так, но в чем причина? Понять он пока не мог, а потому разглядывал сидящую за роялем знакомую женщину и развалившегося в плетеном седалище мужчину, тот казался ему знакомым.
Первым его увидел мужчина. Немудрено, он сидел лицом к двери, тогда как женщина – ко входу спиной, и если заметила Телониуса, то лишь в зеркально-металлической полировке музыкального инструмента. Сидящий нисколько не удивился, приложил щепотку пальцев к виску в древнем приветствии, а затем тронул ими губы – мол, постарайтесь не мешать, ибо… Но предупреждение оказалось напрасным. Мешать Телониус не собирался, а женщина, все же ощутив его присутствие, играть не перестала, а повернула голову, чтобы он попал в поле зрения выпуклого глаза.
– Телониус! – только и произнесла она, а он сорвался с места, подбежал и взял за узкие плечи. Пасифия! Его Пасифия, мать, а стоящий на инструменте невообразимо древний аппарат наверняка был тем волнофоном, через который они общались все то время, что он пребывал на Венере. Он мельком отметил – волнофон работает, но включен на мертвый канал. Затем его пронзила догадка! Сама загадка, как оказывается, подспудно грызла его, – чего же не хватает музыке, извлекаемой Пасифией из клавиш, труб и рычагов инструмента. Да и сама Пасифия пододвинулась, освобождая место рядом с собой, и он умещается на клочке пространства, вытягивает руки, заносит пальцы над рычагами и клавишами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Михаил Савеличев Лабиринт для Минотавра [litres] обложка книги](/books/434824/mihail-savelichev-labirint-dlya-minotavra-litres-cover.webp)

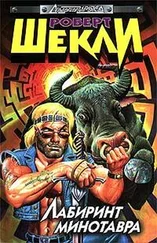




![Михаил Савеличев - Черный ферзь [litres]](/books/393802/mihail-savelichev-chernyj-ferz-litres-thumb.webp)
![Михаил Савеличев - Проба на излом [litres]](/books/434823/mihail-savelichev-proba-na-izlom-litres-thumb.webp)