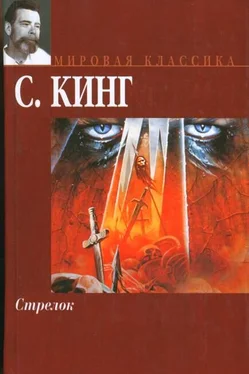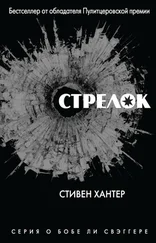Катберт схватил Роланда за руку и посмотрел на него с такой пронзительной болью во взгляде, что Роланд снова засомневался и отчаянно пожалел о том, что в тот вечер они вообще сунулись в западную кухню. Отец был прав. Лучше бы все жители Тонтоуна — мужчины, женщины, дети — умерли. Лучше уж так, чем вот это.
И всё же. И всё же. Это был для него урок — страшное «что-то», острое, зазубренное, проржавелое, — и Роланд не мог его пропустить.
— Давай лучше не будем туда подниматься, — сказал Катберт. — Мы и так уже всё увидели.
И Роланд нехотя кивнул, чувствуя, как это ужасное и непонятное «что-то» потихоньку его отпускает. Корт, будь он здесь, влепил бы им обоим по хорошей затрещине и заставил бы взобраться на помост, шаг за шагом… шмыгая по дороге разбитыми в кровь носами и глотая солёные сопли. Может быть, Корт даже забросил бы на перекладину новенькую пеньковую верёвку с петлёй на конце, заставил бы их по очереди просунуть голову в петлю и постоять на дверце люка, чтобы прочувствовать всё в полной мере. Корт непременно бы врезал им ещё раз, если бы кто-то из них вдруг захныкал или с испугу напрудил в штаны. И Корт, разумеется, был бы прав. В первый раз в жизни Роланду захотелось скорее стать взрослым.
Нарочито медленно он отломил щепку от деревянного ограждения, положил её в нагрудный карман и только тогда отвернулся.
— Ты это зачем? — спросил Катберт.
Роланду очень хотелось сказать в ответ что-нибудь бравое, типа: Да так, на счастье… — но он лишь поглядел на Катберта и тряхнул головой.
— Просто чтобы было, — сказал он чуть погодя. — Всегда.
Они отошли подальше от виселицы и, усевшись на землю, стали ждать. Где-то через час начали собираться первые зрители, большинство — целыми семьями. Они съезжались на разваливающихся повозках и везли с собой еду: корзины с холодными блинами, начинёнными джемом из диких ягод. В животе у Роланда заурчало от голода, и он снова спросил себя: где тут достоинство, где благородство? Он даже подумал, что, может, достоинство и благородство — это очередная ложь, выдуманная взрослыми. Или это такие сокровища, до которых так просто не доберёшься? Ему казалось, что даже в том, как Хакс бродил по чадящей кухне в своём перепачканном белом костюме и орал на поварят, и то было больше достоинства. Роланд сжал в кулаке щепку, которую отломил от ограждения на помосте. Рядом с ним на траве лежал Катберт с деланно безразличным лицом.
В конце концов всё оказалось не так уж и страшно, и Роланд был этому рад. Хакса привезли на открытой повозке, но узнать его можно было лишь по неохватному туловищу: ему завязали глаза чёрной широкой тряпкой, которая закрывала почти всё лицо. Кое-кто начал швыряться в него камнями, но большинство зрителей даже не оторвались от своих завтраков.
Какой-то стрелок, которого мальчик не знал (он ещё порадовался про себя, что не отец вытащил чёрный камень), помог толстому повару подняться на эшафот, осторожно ведя его под руку. Двое стражников из Дозора заранее прошли вперёд и встали по обеим сторонам от люка. Хакс и стрелок взобрались на помост, стрелок перекинул верёвку с петлёй через перекладину, надел петлю Хаксу на шею и затянул её так, чтобы узел оказался точно под левым ухом. Птицы улетели, но Роланд знал, что они выжидают и скоро вернутся.
— Не желаешь покаяться? — спросил стрелок.
— Мне не в чем каяться. — Слова Хакса прозвучали на удивление отчётливо, а в его голосе явственно слышалось какое-то странное достоинство, несмотря на то что его заглушала та чёрная тряпка, закрывавшая рот. Ткань легонько колыхалась под тихим ветерком, который только что поднялся. — Я не забыл лица своего отца, оно всегда было со мной.
Роланд внимательно пригляделся к толпе, и то, что он там увидел, его встревожило. Что это — сострадание? Может быть, восхищение? Надо будет спросить у отца. Если предателей называют героями («Или героев — предателями», — мрачно подумал Роланд), значит, пришли тёмные времена. Воистину, тёмные времена. Жаль, что ему не хватает пока разумения разобраться во всём как следует. Он подумал про Корта и про хлеб, который он дал им с Катбертом. Теперь мальчик испытывал к своему наставнику искреннее презрение. Близок день, когда Корт будет служить ему. Может быть, только ему, а Катберту — нет. Может быть, Катберт согнётся под непрерывным градом нападок Корта и останется конюхом или пажом (или ещё того хуже — станет надушённым и напомаженным дипломатом, который слоняется по приёмным и вместе с впавшими в маразм престарелыми королями и принцами тупо пялится в псевдомагические хрустальные шары). Катберт — да, может быть. Но он, Роланд, — нет. Он это знал. Он создан для безбрежных просторов и дальних странствий. Уже потом, вспоминая об этом в своём одиночестве, Роланд сам диву давался, что такая судьба когда-то казалась ему заманчивой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу