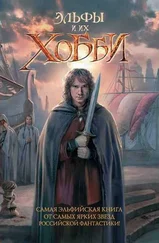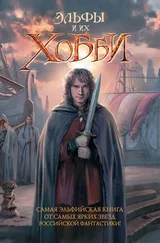— Рад тебя видеть, Генрих.
— О Третий, чьё имя Якоб…
Тот выглядел расстроенным, глаза увлажнились. Предавшись своим воспоминаниям, он, как любой старик, расчувствовался. Готов был обнять в сердцах Генриха, но сдержался.
— Давай без церемоний, Четырнадцатый. Что ты хочешь?
Тот откинул капюшон. Перед Якобом предстал молодой парень арабской крови. Угольки глаз на миг вспыхнули пламенем:
— Мести! — Лицо спокойно, короткая пауза, голос чуть дрожит. — Господин Сандр, Вы — человек чести! В этом мире сегодня понятие чести уже утеряно. Но не Вами! Убит мой крёстный отец, человек, которому я обязан своей жизнью, достоинством, положением. Убит жестоко, бесцельно и…
Он запнулся, глубоко вздохнул. Якоб молчал, чувствуя озноб и непонятный страх, будто он сам виновен. И закипающий азарт.
— И я знаю, после того, как тело господина Вильхельма вынесли из камеры… этот… Первый… он избил его мёртвого, рыча что-то про Шестую, чьё… — Генрих начал задыхаться. — Он бил уже мёртвое тело моего крёстного отца. Ногами. Мне говорили стражники… — голос оборвался в приступе ярости.
— Мальчик мой… — мысли Якоба разбегались от воззвания к прощению до радости от обретения нового союзника.
Генрих взял себя в руки:
— Господин Сандр, я прошу у Вас помощи очистить доброе имя моего благородного отца! Отомстить Первому! Убить его!..
Последнюю фразу он выдохнул спокойно, рассчётливо. Так, чтоб она означала не сиюминутное помешательство, а продуманное решение.
Якоб стоял в нерешительности. Они одни в огромном тёмном зале его сна. Если он согласиться на эту авантюру сразу — шельмец подумает, что он хочет единоличной власти и согласен на насилие. Если начнёт упираться — Генрих может призвать в союзники Мартина… А потом восстать против него, Третьего, уличив в проступке.
— Какой смысл мне ввязываться в твои кровные дела, Генрих? — вопрос прозвучал цинично, но позволял тянуть время для раздумий, не давая понять ответ.
— Разве Вы не хотите… единоличной власти? — вопросом на вопрос ответил Четырнадцатый. Якоба прошиб холодный пот.
Он испугался.
И проснулся.
Он дрожал, предвкушая это испытание властью. Здесь и сейчас ему выпадал шанс осуществить то, что не удалось тогда, в прошлой жизни.
Якоб встал с кровати, укутался одеялом от холода ночи, сел у окна и принялся обдумывать варианты.
* * *
В каждой колонии светлых эльфов царило оживление: полуживые тёмные, задыхаясь, вылезали из-под земли. Помимо основных выходов из Хар'ол-Велдрина существовали небольшие тайные, о которых знали не все подземные жители, но теперь узнали наземные.
Кому из тёмных везло — те селились в брошенных «серых» домиках. А кому не везло — вынуждены были просить помощи. С виноватым видом, забыв о своей гордости, они появлялись возле поселений, клянча милость и снисхождение.
Конечно, светлая целительница Тари призывала к милосердию, уверяла, что тёмные снова скоро уйдут под землю, когда смогут там жить.
Но уже к полудню следующего после бури дня по колониям начали расползаться другие письма. Они говорили о начале «безоружной войны», о мирном захвате надземной территории тёмными, о призывах не пускать их в свои дома, не помогать им. Откуда появлялись эти письма — никто не знал.
Напряжение нарастало. Тёмных становилось всё больше. Последними на поверхность выбирались юнцы-наукаасы — неотёсанные, задиристые, вырвавшиеся из-под жёсткого контроля. К вечеру начались стычки. И Верховной жрице тёмных, и Светлой целительнице, жившим в Олассие Махальма, пришлось мобилизовать элитные войска и под контролем расселять беженцев. Эльфы решили, что это первый шаг на пути к «мирной войне». Часть светлых взбунтовалась и ушла из колоний в леса. Часть тёмных пропала без вести: не выбрались из-под земли или не нашли приюта.
Всеми владели забытые некогда чувства гордости за своих и вины от того, что всё идёт совсем не «цивилизованно». Каждый, отдельно взятый светлый был готов пригласить тёмного, но толпа сбивалась с этого гуманизма и шла защищать границы своей колонии. Тёмных оказалось слишком много, и чем больше их прибывало, тем сильнее нарастало недовольство.
* * *
Дом Четырнадцатого и Двести-сорок-второй пережил бурю, хотя стёкла потрескались и пропускали дождевую воду. Девушка с малышом не пострадали.
Сам Четырнадцатый пришёл на рассвете, хмурый и уставший. Почти ничего не говорил, поднялся наверх, заперся там. Не впускал и почти не отзывался. Она не настаивала, предпочтя худой мир доброй ссоре.
Читать дальше


![Владимир Мясоедов - Новые эльфы - Новые эльфы. Растущий лес. Море сумерек. Избранный путь [сборник; litres]](/books/28126/vladimir-myasoedov-novye-elfy-novye-elfy-rastuch-thumb.webp)