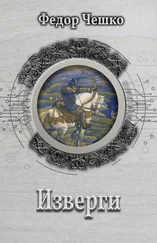Откуда-то из-за спины, из невидимой опасной близости ударил по внешним микрофонам длинный натужный плеск. Матвей развернулся, дергая с плеча оружие. Ноги, как заполошные куры, вознамерились порскнуть в разные стороны (одной захотелось на берег, а вторая почему-то сунулась обратно в озеро); стрелялка, естественно, за что-то там зацепилась, и Молчанов, рванув ее посильней, только того и добился, что окончательно разделался с остатками равновесия…
Самое обидное, что вся вышеописанная акробатика оказалась напрасной — он понял это, уже сидя в курящейся давленной синюхе и обалдело пялясь на виновника своего испуга.
Виновником оказался исполнительный механизм. Это он наконец добрался до берега, волоча за собою вспоротый от носа до кормы понтон.
— Брось ты его! — ненавидяще сказал Матвей, ценою титанических усилий возвращаясь в вертикальное положение.
Механизм исполнительно бросил. Молчанов злобно пнул упокойное плавсредство, снова едва не упал, выругался и, с трудом развернувшись, побрел к сбившимся в кучку спутникам-людям. Побрел точь-в-точь как недавно Крэнг: то и дело оскальзываясь и матерясь на всех мыслимых языках.
…Некоторое время стояли тихо, пытаясь освоиться с окружающими красотами. Когда безнадежность попыток сделалась очевидной, Клаус спросил обреченно:
— Ну так как, будем тренироваться в стрельбе?
Но тренироваться в стрельбе не хотелось. Никому. Даже Матвею, который о пулевом оружии представление имел лишь чисто теоретическое. Неожиданное общее нехотенье стрелять прорастало из внезапного осознания всеобъемлющей, глобальной тишины, разлитой вокруг. Ведь, наверное, в любом другом из миров, наделенных жизнью, даже если надел этот куда скудней здешнего, что-нибудь обязательно шелестит под ветром, и какая-нибудь живность развлекается ревом, воем, вспискиванием, свиристением или хоть попросту противным назойливым гудом…
А здесь…
Ну да, да — пена на озере. Она действительно то ли шипит, то ли шуршит неумолчно и ровно, только бесконечный этот неизменчивый звук с тишиною в кровном родстве.
А еще там, в пенной трясине, время от времени проскальзывают какие-то смутные тени. Смутные и бесшумные. Один раз вымелькнуло из нее стремительное гибкое тело — что-то среднее между клювастой рыбой и бескрылой птицей; вымелькнуло, изогнулось упруго и упруго же вонзилось обратно. Без малейшего плеска. Без ничтожнейшего противоречия каменной тишине байсанской диван-степи.
Как-то вопреки пониманию понималось: выстрел, даже до почти полной неслышимости ослабленный глушителем, воспримется здешним миром как удар. Как пощечина. Как оскорбление. А он, мир-то здешний, не походил на те, которые сносят оскорбления безответно.
— Ну, нихт шиссен так шиссен нихт. Тогда… — Клаус откашлялся. — Бэд! Слышишь, Бэ-эд! Ты ведь в местный джангл хочешь, в псевдомангр этот? А?
— Да. — Матвей сам не услышал своего голоса, но Кадыр-оглы счел беззвучие разновидностью утвердительного ответа.
— Тогда так. — Афгано-немец Клаус Генрих вдруг с ощутимой опаской всунул руку в неустанно сучащее многоножие исполнительного механизма, отчетливо скребанул по его гулкому керамопластовому брюху, и механизм медленно, словно бы нехотя, начал покрываться синими крапчатыми разводами. — Идем звездой, — сказал Кадыр-оглы, распрямляясь и переводя дух, — механизм в центре, держаться как можно ближе к нему. Направление марша — во-он тот холм, потом по гребню. Вопросы?
— А, короче, зачем это — липнуть к испу? — спросил Фурункул (похоже, просто так спросил, чтоб только не промолчать).
— Он нас прикроет от сканеров. От возможного сканирования с орбиты. У него антиполе. Еще вопросы? Ну и хорошо. С Богом. И не зевать.
…«Во-он тот холм» был именно тем плешивым бугром, на котором вчера маячили трое всадников. Сейчас на плоской серопесчаной плешине остались только следы — то ли копыт, то ли кулаков, то ли еще чего-то.
Взобрались. Постояли, отсапываясь. Осмотрели следы. Внимательно оглядели окрестности. Не обнаружив ничего подозрительного, двинулись вдоль гривы — держась поближе к роботу и не зевая.
Идти было трудно — так, будто все время в гору. Хоть когда по правде приходилось взбираться на очередной всхолмок, хоть когда с очередного этого всхолмка надлежало спускаться, особой разницы не чувствовалось.
Довольно долго в интеркомовских динамиках слышны были лишь натужное сорванное дыхание да еще (это в седловинках, где песок затягивала чавкотная синюшная склизкость) раздраженный многоголосый мат. Потом кто-то — кажется, Крэнг — вдруг решил сообщить:
Читать дальше



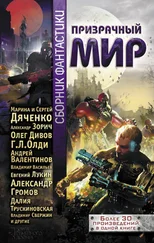



![Федор Чешко - Ржавое зарево [litres]](/books/399417/fedor-cheshko-rzhavoe-zarevo-litres-thumb.webp)