- Что вы можете сказать в своё оправдание? - спросил судья Батю. - Неужели в наш просвещённый век, оставивший позади такие печальные явления, как война, голод и социальное неравенство, возможно жить в разврате и праздности, не посвящая душу справедливости, добродетели и красоте? Неужели, видя, как растёт и множится в неустанных трудах человеческое братство, можно не испытывать желания принимать деятельное участие в созидании всеобщего счастья?
И тут чудовище Франкенштейна взбунтовалось против своего создателя.
- Да, можно! - ответил Батя.
Услышав эти слова, зал словно взорвался.
- Подонок, мерзавец, душегуб! - кричали Бате агрессивно настроенные граждане.
- Теперь вы понимаете? - вещал во весь голос прокурор. - Сами законы мироздания требуют призвать это гнусное чудовище к ответу, осудить его как упорного и последовательного врага человечества!
- А я не согласен! - сказал Батя, когда шум, наконец, стих. - Требую пересмотра законов мироздания!
- Но позвольте, уважаемый! - пытался увещевать Батю судья. - Будучи в некотором роде разумным существом, вы должны понимать, что ваше наказание в данном случае - вопрос, гм, объективной истины...
На это Батя возразил так:
- Если это такая истина, что я помереть должен - спасибо, не надо. Дерьмо это, а не истина.
- Другой, извините, не держим, - спокойно ответил на эту неслыханную наглость прокурор. - Истина для всех одна. Что вы перед ней, что таракан - всё едино. Впрочем, извечный нравственный закон не запрещает оставаться гуманными к тем, кто его отринул, вне зависимости от того, произошло это по недомыслию или ввиду злого умысла. Так что, если желаете, могу приказать подать вам стейк и пару пива. А может, чайку хотите? Чайковского да с шоколадом - нам вчера шоколад завезли? Нет? Ну, как знаете. Наше дело маленькое.
Он был прав. Другой истины не было. Приговор был произнесён, опубликован в газетах ("Голос Новой Трои", как всегда, был первым), зачитан со сцены, и момент, когда звезда Бати закатится окончательно, был недалёк. Будь Батя землянином, всё ограничилось бы тюремным сроком. Но он был конгар - и, как я говорил выше, конгар, не оправдавший ожиданий. Не помню уже, повесят его или четвертуют - слишком многое произошло за последнее время, чтобы запоминать подобные мелочи - в любом случае, он будет наказан, как того требуют справедливость, милосердие и красота.
Прежде чем проститься с Батей (на время, не навсегда - в качестве действующего лица он ещё появится в десятой главе), скажу пару слов о том, как он проводит свои последние дни. Есть странная ирония в том, что по- настоящему я познакомился с Конкасом из Румбы лишь тогда, когда перестал быть корреспондентом "Голоса Новой Трои" - то есть, когда сам окончательно превратился в призрак, в собственную тень.
Я навестил его в мае, рано утром (сейчас, когда я пишу эту книгу, на дворе июнь, и по всей Новой Трое цветёт черёмуха). День обещал быть хмурым и ветреным: флаги над городской тюрьмой (наша традиционная символика: щит Ахилла и копьё Гектора) трепались, словно языки обезумевших от бега гончих. С момента окончания войны с Землёй прошёл всего месяц, и здание не успели отремонтировать после бомбёжки: там заменить выбитые стёкла, здесь положить новый слой штукатурки и выкрасить забор...
Камера Конкаса находилась в восточном крыле, где он числился единственным заключённым.
- Здравствуйте, - сказал я, когда охранник затворил за мной тяжёлую дверь. - Меня зовут Юн. Я делал репортаж о вас для "Голоса Новой Трои". "Алхимический брак дикости и благородства", помните?
Конкас откликнулся не сразу. Он сидел за столом и писал что- то (конгар - писал!) на длинном рулоне бумаги. Вид у него был препаршивый: кожа с боков свисала складками, а жидкая бородёнка (даже в тюрьме волосы у конгаров растут медленно и неохотно) придавала его красной, словно непроваренной физиономии, что- то жалкое, недостойное такой громадины.
- Помню, - ответил он. Голос у него был простуженный, сиповатый - Статьи обо мне - это единственное, что здесь разрешают читать. Некоторые я наизусть выучил. Зачем пришёл?
- Хотел перед вами извиниться.
- Извиниться? - переспросил Конкас. - Валяй, я не против. Можешь даже не объяснять, за что. Сегодня ко мне приходил Тромкас - тот самый, что на суде громче всех кричал о том, как низко я пал по сравнению с порядочными конгарами. Он бил себя кулаком в грудь, уверял, что это была минутная слабость, умопомрачение, его заставили, угрожали и тому подобное, а кончилось тем, что он сожрал половину моего ужина, и его вырвало мне на кровать. Забегал ко мне и Кирневер - этот, чтобы не тратить время зря, сразу бухнулся в ноги и завыл "Прости меня, дурака, виноват!". Я простил. Он поднялся и говорит: "Ты, Конкас, мировой мужик, прямо жалко, что не сегодня- завтра помрёшь. Скажи, что с бабами твоими делать: в степь или народу отдать - пусть хоть раз в жизни потешится? Плюнь на них, отвечаю, пусть живут, как жили, а он мне: "Искалечил тебя гуманизм, ох, искалечил!". Ну я и вдарил ему. Дети тоже приходили, жаловались: а Конкас дерётся, а Бомсен мою зычницу украл - одним за сорок, другим под пятьдесят, а всё не успокоятся. "Да за что же ты, батя, нас, сиротинушек, покинул, да как мы будем без тебя?". Наплодил ублюдков, нечего сказать. У тебя дети есть?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

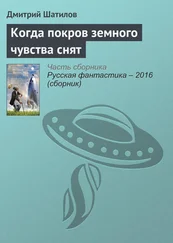


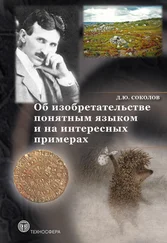



![Анатолий Подшивалов - Господин изобретатель [≈ Господин Изобретатель. Часть I (СИ) + 1-я глава книги Господин Изобретатель. Часть II (СИ)] [litres]](/books/388405/anatolij-podshivalov-gospodin-izobretatel-gospodin-izobretatel-chast-i-si-1-ya-glava-knigi-gospodin-izobretatel-chast-ii-si-litres-thumb.webp)

