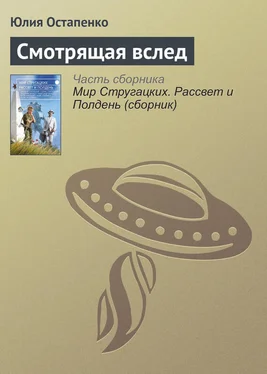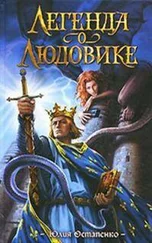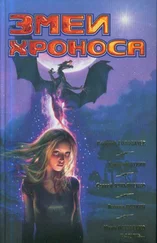То есть это поначалу она изумлялась. Первый год. А потом все поняла. Благородным донам позволено очень многое, в том числе некоторая доля эксцентричности. Непонятное мягкосердечие дона Руматы, кое многие находили смехотворным, хоть и никогда не сказали бы ему об этом в глаза; явная скука и порой даже досадливость, с которой он выполнял свои придворные обязанности; отсутствие раболепия перед первыми лицами королевства и странная привязанность к нелепым людишкам вроде барона Пампы, над которыми потешался весь Арканар, – все это прощалось ему, потому что он был мужчиной. Но что позволено благородному дону, то благородная дона позволить себе не может. Она не может скучать на балах и отворачиваться от назойливых поклонников. Она не может встать и уйти, когда галдящая стайка придворных дам по уши закидывает ее очередной порцией сплетен. И когда орел наш дон Рэба присылает к ней слугу с приказом немедленно явиться в его покои, она не может ответить: «Нет».
Знал ли об этом дон Кондор, отправляя ее сюда? Знал ли хоть кто-нибудь в Институте, что это такое – быть женщиной в царстве средневекового мракобесия, пусть даже и женщиной высокого положения, придворной дамой? Окана считала, что нет. Ее высадили на локацию и поставили рабочую задачу; как именно она эту задачу выполнит, никого не касалось. Если дон Кондор и отворачивался стыдливо, то не потому, что сполна сознавал, что ей приходится делать. Он просто чувствовал, что с нею что-то неладно, а что именно – не понимал. Вполне возможно, он, как и прочее руководство с Земли, искренне верил, что Сонечка Пермякова держит руку на пульсе всех придворных интриг исключительно за счет своего природного обаяния, как и благородный дон Румата. Если историк-мужчина может ответить на вызовы эксперимента и справиться с возложенными на него задачами, то почему не может историк-женщина?
А она не может. Не может, и все.
Она поняла это в тот день, когда решила принять ванну и явилась на бал, благоухая свежим запахом здорового тела, с капелькой легких земляничных духов. Это вызвало самый шумный скандал, какой знал королевский двор за целый месяц. Женщины смотрели на дону Окану с возмущением (ишь чего выдумала, кокетка!), мужчины – с вожделением (знаем, знаем, для кого старалась…). Ее тогдашний любовник, министр финансов, потянув носом над ее надушенным ухом, скривился и сказал: «Мылась? Мода, что ли, новая у вас пошла? Ты эту придурь брось!»
И она бросила эту придурь. Благородный дон Румата, отстояв скучные полчаса у туалета короля и нацепив сиятельную правую туфлю на высочайшую правую ногу, выходил из душных дворцовых залов на улицу и обретал свободу. Он шел в свой собственный дом, где слуги не смели глянуть на него косо. Шел к своей Кире, которая принимала его и любила настоящего, тем, кто он есть, а не кем должен казаться.
Он шел, и дона Окана смотрела ему вслед.
Это оказалось легко. Она поднаторела в таких делах. Пара томных улыбок из портшеза, одно вульгарное письмецо, приглашение на званый ужин в кругу избранных. Она не сомневалась, что он придет – не потому, что клюнул на ее уловки. Окана слишком хорошо понимала цену своей красоте – арканарской красоте, выхолощенной, скрупулезно подогнанной под вкусы местной публики и орла нашего дона Рэбы. Антон не мог купиться на такое, но дон Румата обязан был купиться, иначе о нем бы плохо подумали.
И он пришел. Окана долго сидела у себя наверху, слушая гомон собравшихся в салоне гостей. Потом встала, развернула перед грудью пышный веер из гигантских перьев. Пошла. Предстала перед ним во всем своем арканарском блеске: огромные синие глаза без тени мысли и теплоты, нежный многоопытный рот, роскошное, умело и старательно обнаженное тело… Глупая, похотливая курица. Вот кто она для дона Руматы, ни больше, ни меньше: Окана ясно читала это в прямом взгляде его светлых, холодных глаз, судящих ее с беспощадной божественной прямотой, ничего не пропускающих, видящих насквозь. Ты видишь меня насквозь, но на самом деле не видишь ничего.
Она пошла прямо к нему, протянула руку, кокетливо изогнув запястье.
– Вы ослепительны, – пробормотал Румата, глубоко кланяясь и лязгая мечами. – Позвольте мне быть у ваших ног… Подобно псу борзому лечь у ног красавицы нагой и равнодушной…
Его рука сжимала ее надушенное запястье, но не ладонью, а пальцами, чуть заметно поджавшимися от гадливости. Все смотрели на них. Завтра на них, разумеется, донесут. Но Окане было на это плевать. Завтра Антона в Арканаре уже не будет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу