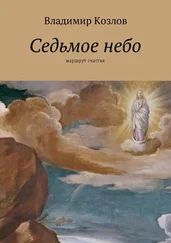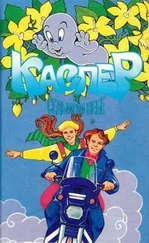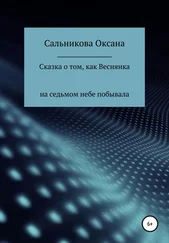Он еще тогда переспросил: лейтенант? Подошел, положил руки на плечи, сжал их и спросил: хэнк? Как будто бы раз и включил в себе нужное. Я поставил его стаканчик туда, куда он сложил оружие. Стряхнул его пальцы с плеч.
— Пошел ты, Лоусон.
И сам ушел.
Один был с молоком, другой без. Другой был без, без, Лоусон, в моих руках, а ты подавись теперь тем. Нахрен, пожалуйста.
Я вышел на улицу и сел на ступени. Холодный осенний ветер ударил по лицу не хуже воображаемого выстрела. Сначала мимо прошел Гэвин, завел своего Дэвидсона, чуть ли не облизал его при встрече, и укатил. Затем была Хлоя. Прыгнула в красного жука и выехала с парковки. Я просидел еще, наверное, час. Фаулер с удивлением притормозил рядом, как если бы выходка Лоусона вдруг отпечаталась прямо у меня на лице. Мы поговорили о женах, об отчетах, о работе, о детях. Затем он уехал, и я думал о Гэвине, Перкинсе, машине папочки, скрывшейся за поворотом.
И о Конноре, который остался там. Чья машина единственная застряла перед глазами, рядом с моей. Когда я поворачивал ключ, выезжал с парковки, гнал по дороге, мне больше всего хотелось прийти домой и поцеловать жену. Обнять Коула, спросить, как прошел день в школе. Хотелось спать, чертовски хотелось лечь. Когда дорога тянулась в линии, в змей, я еще не знал, что Лоусон отправится прямо за мной.
Следом, в мой сон.
Снился мне в ту ночь гребаный фруктовый компот — иначе не назовешь.
Я сидел в архиве, перебирал бумажки, раскладывая по годам, по именам, по способу убийства — словом, занимался херней. Как вдруг дверь открылась, зашел лимон. У него были длинные ноги и красные туфли. Поправил волосы, доложил мне на стол папок и вышел. Затем залетела черника. Прожужжала о чем-то, прошипела, запачкала листки, которые принесла, синим цветом, и выбежала в истерике. Наверное, расстроилась, что испортила документы. Но мне, если честно, было совсем не до этого, потому что зашло яблоко и село напротив. Оно положило ногу на ногу, отобрало у меня часть папок и открыло свой шкафчик — достало яблоко поменьше, откусило, прожевало и выбросило. Достало другое — все повторилось. И так много и много раз. Потом зашел Перкинс — единственный живой человек в этом архиве-кастрюле, помимо меня, перезарядил пистолет и выстрелил. Стрелял он всегда хорошо, вот и теперь попал, как обычно — в яблочко.
Проснулся я резко, подскочив на кровати и приложив руки к лицу. Сон шизофреника, не иначе. Довел ты себя, Андерсон, рассуждениями кто и зачем, а в итоге…
Остальным ли не похер? Тебе бы тоже, в самом-то деле, хоть в чем-то взять с них пример.
Я встал, чтобы попить воды, дошел до кухни и наткнулся на Нэнси. Она сидела у открытой двери, смотрела на улицу и рычала. Тогда я впервые это заметил — сигнализация была выключена, дверь нараспашку. Я стоял со стаканом в руке, смотрел на деревья и пытался найти оправдание плохому предчувствию. Открытой двери, злой собаке. И холоду.
Потому что было холодно, да. В сентябре обычно не так холодно, но пока я стоял и пытался хоть что-то понять, кусты где-то рядом зашевелились.
И меня пробрало.
Это мог быть и ветер. И бездомный. И собаки.
Моя заскулила и посмотрела в глаза.
Но не тебе ходить и проверять. Правильно, Хэнк? Когда уже двадцатый год находишься под программой защиты свидетелей, невольно начинаешь привыкать к странностям. К скрипящим дверям, к теням, к собственным кислым снам. Ну, и к рычащему псу. Ко всему простому, что обычный человек не заметит, но вот твое — конкретно твое — сердце непременно возьмет и забарахлит.
Наверное, в ту секунду оно вообще не билось. Потому что, если бы оно билось — если бы застучало прямо в голове (по ушам), я бы не сделал ни шагу вперед. Я бы не вышел на крыльцо и не включил бы свет во дворе. Не дал бы темноте себя увидеть. Не дал бы кустам смотреть.
Конечно же, там ничего не было. Потому что оно бы в любом случае притаилось, а ты — идиот, Андерсон.
Жаль, что понять это можно только сейчас. Когда во рту лишь один вкус — собственной крови, но губы все равно высохли. Ты хочешь дышать и плеваться, зашить весь живот только затем, чтобы доползти до собак, проверить их пульс и решить, где твоя.
Где твоя, Андерсон, а? Где твоя?
Я смотрю на Коннора, гипнотизирую, сжигаю все его тело одним только взглядом. Когда его рука шевелится, я почти кричу. От радости даже в груди колет. На пределе собственных сил я разлепляю губы, чтобы произнести его имя, чтобы позвать, чтобы шел, возвращался на голос. Но его рука падает, потому что из-под нее выбирается Нэнси. Она валится рядом, в снег, высовывает язык, скулит и лижет его, пытается отдышаться, пытается пить талую воду — как есть. Затем поворачивает голову и прячет нос в чужой ладони. Я смотрю на красные пальцы, смотрю на язык собаки, смотрю на Коннора, на его руку, считаю и обещаю себе, что когда закончу, обязательно встану.
Читать дальше
![Adversa_Fortuna На седьмом небе [СИ] обложка книги](/books/415510/adversa-fortuna-na-sedmom-nebe-si-cover.webp)