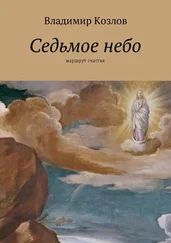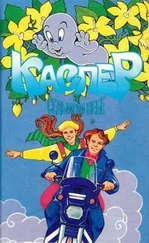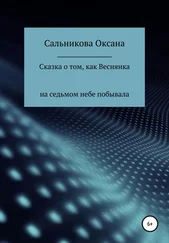Возможно, поэтому он был лучше Гэвина, Перкинса, других молодых курсантов, которые только закончили академию, как их уже прислали в участок. У всех у них во взгляде было что-то одинаковое: сияние, обещание — мы спасем всех и каждого. С нашим — именно с нашим! — приходом все изменится. Ага, конечно. Все мы там были. С желанием всем помочь и всех спасти конкретно Коннор справлялся по-своему: ложился под пули. Пару раз попав в перестрелку с ним, я понял, что говорил он только прямо. Что диалог с ним обычно не завязывался, а тут шел вовсю — у него была не голова, а справочник. Делая вид, что последнее слово за мной, он каждый раз поступал по-своему. Кивал, смотрел прямо в глаза, соглашаясь: конечно, лейтенант. Отводил взгляд, и я уже по положению плеч видел: серьезно, хэнк? ты правда так думаешь? Когда пистолетное дуло упиралось ему прямо в лоб, около глаз, он ломал преступнику руку, чтобы выбить оружие, которое обязательно оглушало его, потому что выстреливало правее.
На пару гребаных сантиметров.
Он провернул такое раза два, а после я набил ему морду. Фаулер набил морду мне. Преступник лежал под Гэвином. Оба смотрели и не двигались. Хлоя держала пистолет, перезаряжала и все проверяла наручники. Перкинс тоже хотел вломить Коннору. Было весело всем, потому что папочка (Фаулер) по итогу оставил в архиве каждого — всю ночь заставил перебирать бумажки.
Никто не начал ненавидеть его сразу, нет. Все это сработало, как плита — огонь разгорался медленно. Суп не варился, потому что вода не кипела. Коннор был обычным, самым обыкновенным.
Сначала.
А месяца два назад, наверное, он направил на меня пистолет. Это было в тире, как сейчас помню. К тому моменту я устал считать выговоры Фаулера, эти его диалоги (нет, монологи, черт бы их побрал) с оружием, ночи в архиве и чужие взгляды. Я подошел с кофе, потому что напарники пьют кофе. Потому что по какому-то странному и негласному правилу этого мира тебе нужно что-то предложить прежде, чем брать. Мне хотелось быть дружелюбным, покормить собаку, погладить шерсть. Узнать, что он за фрукт, потому что к тому времени уже весь департамент шутил.
Гэвин Рид: Та еще ягода. У него всегда один и тот же свитер. Синий. Одни и те же джинсы, Андерсон. Угадай, какие? Это же странно. Кисло.
Хочешь сказать, черника? Да ладно тебе, Рид, не он тебя достал. Иди к своему Дэвидсону и сдирай краску с него.
Хлоя: Мы с ним почти не общаемся, но в первый день, когда я проводила его к папочке, тот сказал мне — у тебя такое лицо, как будто бы ты лимон съела.
А у Хлои на него аллергия, это все знают.
Нет, не лимон, неа.
Мне казалось, что он похож на яблоко. Вот оно лежит на столе, и его никто не хочет. В вазе, в центре отдела — ее ведь наполняли каждый день. Потом подойдет Рид, откусит кусок и бросит. Потом подойдет Перкинс и доест все остальное, даже огрызок проглотит. Спросит, нет ли еще.
Но больше нет. Больше только на следующий день.
Вазу наполняли постоянно, так это работало.
Завтра будет еще — нам все время говорили. Коннор приходил каждый раз новый — о нем тоже к тому моменту говорил уже каждый.
Так вот, это сраное яблоко ткнуло в меня пушкой, когда я подошел сзади. Он направил пистолет прямо промеж глаз, как всегда направляли на него, и в ту секунду я понял, за что он сам каждый раз ломал преступникам руку: мне захотелось сделать то же самое. Но вместо этого я заглянул ему в глаза. И там не было ни простите, лейтенант, ни извини, хэнк, ни проваливай, ни зачем приперся, андерсон? Там не было ни че го. Коннор был пуст, абсолютно. Выглядел так, словно пробежал десять миль, а не выбил мишень. Как будто заваривал чай, а не держал меня на мушке.
Тогда мне это почудилось впервые. Острое, прямо под кожей, на кончиках пальцев и в ребрах. Колючее чувство. Де жа вю, как оно есть. Он сам накладывал на меня обязательства — мы смотрели друг другу в глаза так, словно кто-то из нас сейчас точно умрет. Словно все это уже было. Словно я знал, кто спалил ему шерсть, кто светил фонариком в глаза и кто такой Майкл Перриш.
Я помотал головой и решил, что бред. Вспомнил Нэнси, своего пуделя. Полицейских овчарок — вспомнил всех возможных собак, чтобы выгнать из своей головы все чужое, что Лоусон поместил туда. Одним этим взглядом. Рукой с пушкой. Невыпущенной, придержанной пулей.
Вот так дворняги и поступают: кусают, затем бегут. Он постоял, пришел в себя, опустил руки, а затем посмотрел на мои и спросил:
— Без молока?
Клянусь, он прямо это и выдал. Спросил про гребаный кофе. Словно в руках у него была сладкая вата, а не магнум. И мозги бы мне прошибло сахаром, а не свинцом. Так, Коннор?
Читать дальше
![Adversa_Fortuna На седьмом небе [СИ] обложка книги](/books/415510/adversa-fortuna-na-sedmom-nebe-si-cover.webp)