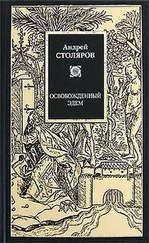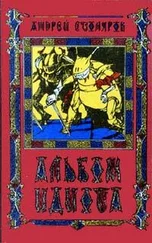Она вновь распахивает глаза:
— Иногда надо броситься в пропасть, чтобы в падении отрастить крылья.
И добавляет:
— Рэй Брэдбери.
А затем, через пару секунд:
— Писатель такой… был…
Ну что с ней, дурочкой, сделаешь? Нахваталась цитат и думает, что красивые фразы имеют какое-то отношение к жизни. И не понимает, не понимает, хоть по голове её постучи, что пятнадцать минут славы — это как доза наркотика: сначала необыкновенное счастье, а потом — депрессия, ломка, скручивающая нервы в комок. Хочется ещё и ещё. Но наркотика больше нет, и ни за какие деньги его не купишь. Окажется искалеченной на всю жизнь: будет знать, что такое счастье, но также — что оно ей более недоступно.
Нет, ничего ей не объяснишь.
Как, впрочем — никогда, никому.
Некоторое время мы смотрим друг на друга в молчании.
— Крылья у тебя будут из картона, — наконец говорю я. — Такие в воздухе не удержат.
— Зато я получу свои пятнадцать минут. Так что? Мы договорились?..
В постели она очень старается мне понравиться, и, вопреки стараниям, ей это всё-таки удаётся. Может быть, потому, что старания эти искренние. А искренность — редкий товар, хотя спроса на него сейчас практически нет.
И лишь одно меня мучает: яд в сладком вине.
Арина не догадывается об этом, но за свою искренность, за спасительную психотерапию любви, она получит от меня вовсе не славу, точнее не только славу, но в дополнение к ней — быструю и скорую смерть.
* * *
Синестезия — это всё-таки не болезнь. Острая фаза приступа проходит у меня буквально через три-четыре минуты. Воздух вновь проясняется, озеро и листва на фотообоях обретают естественную окраску, рассеивается мрак за окнами, теперь там — сумерки, придавленные вогнутыми отсветами облаков.
Цвета, однако, ещё смещены: белый — к пепельному, коричневый — к красноватому. Пальцы рук у меня имеют лимонный оттенок, а в кофейной чашечке на столе покоится тёмная болотная зелень.
Как ни странно, мне кажется, что мир и должен быть раскрашен в такие цвета. Они для меня естественны, как дыхание, как биение сердца. Вместо испуга я ощущаю в себе густой внутренний жар и потому делаю то, что, казалось бы, уже ушло в далёкое прошлое. Я включаю «Сезанн», надеваю перчатки, обруч, вывешиваю на стену, там, где обои, пустеющий матовой белизной экран, немного прикрываю глаза, и, замирая, будто на краю пропасти, кладу на него первый, полупрозрачный мазок. Я не обдумываю предварительно ни композицию, ни сюжет. Я вообще не имею ни малейшего представления о том, что в итоге у меня должно получиться, но к первому мазку тут же прибавляется второй, затем — третий, они сцепляются между собой и, словно из тумана, проступают из белёсых пикселей полотна некие загадочные очертания. Я даже не пытаюсь понять, что это такое. Я не пишу ни умом, ни сердцем, но — тем странным, потусторонним жаром, который пробудила во мне ариновская «Джоконда». Хотя в тот момент я этого ещё не понимаю. Я как бы отсутствую: я не понимаю вообще ничего. Да и не надо мне ничего понимать — за меня это делают краски, обретшие цветовую самостоятельность. Они сами слагаются в некую живописную целостность, а я, не замечая ни времени, ни пространства, плыву по ним, как по волнам, влекомый песней сирен куда-то за горизонт. Заканчиваю я тогда, когда внезапно соображаю, что мучительно пытаюсь совместить на одном полотне две разных картинки. Тогда я стягиваю перчатки, снимаю обруч, перевожу пейнтер в спящий режим и с некоторым трудом перебираюсь в кресло, свисая с него конечностями, как задохнувшийся осьминог. Я до предела опустошён. Ничего себе, оказывается, проработал, не прерываясь, более четырёх часов.
Творческое наваждение — иначе не назовёшь.
Со своего тридцать первого этажа я взираю на мегаполис, раскинувшийся вокруг звёздными пажитями огней. Вздымаются громады жилых комплексов с тысячами пылающих окон, возносятся эстакады развязок, подсвеченные длинными светодиодными арками, далеко внизу текут искрящейся лавой потоки машин, и толща воздуха над ними тоже искрится от мошкары непрерывно снующих дронов. Город не успокаивается ни на мгновение, ночная жизнь здесь столь же насыщена, как и дневная. Сравнение с гигантским муравейником уже стало банальностью, но никакая другая метафора не выражает так точно суть этого мегалитического организма. Он полностью самодостаточен. Он не интересуется ничем, кроме себя. За его границами жизни не существует. Разве что в виде компактных производственных площадей, сельскохозяйственных или промышленных, обеспечивающих его, мегаполиса, интенсивный и безостановочный метаболизм. Ему не требуется природа, он сам — природа, разрастающаяся ввысь и вширь. Ему не нужны люди, ему нужны только возобновляемые ресурсы. И потому он превращает людей в покемонов, пассивно, как клетки крови, скользящих по его бесконечным артериям. Они думают как покемоны, они чувствуют как покемоны, они, в сущности, не живут, а лишь отрабатывают нужный этому сверхорганизму технический функционал. А чтобы нарисованные человечки не превращались в людей, он создал для них, в частности, бешено вращающуюся «Карусель». Патай вовсе не автор этого блестящего шоу. Патай точно так же отрабатывает функционал, как и любой другой покемон. А подлинный автор, кстати, авторскими правами вовсе не озабоченный, вероятно, воспринимает это как собственную адреналиновую стимуляцию.
Читать дальше