Софрон вполне воспринял разъяснения Николая моих фраз: «Парня до исподнего не раздевай… мне нужен пример успеха».
Скородума «раздели» — сумма штрафов превысила сумму выплаты. Отдав хлеб, Скородум остался нам должен. И тут же «одели»: дали кредит в шесть сотен под будущий урожай.
Передача денег была произведена в церкви Пронска с отцом Елизарием и посадником в качестве свидетелей. Скородум шептал что-то под нос. Как утверждали присутствующие — благодарил всевышнего. Софрон, правда, слышал слова боярина и думал иначе.
Мне было жаль парня. Разумная идея, уловил возможность прежде других, но… не предусмотрел.
В России помещичье «изобретательство» с часто смешными, и, как правило, разорительными результатами, бурно цветёт в 18 в. Превращаясь ко временам Тургенева в бесцельное прозябание «цвета нации» в разбросанных по стране усадьбах. «Прежде защищаемых крепостным правом, а ныне уже ничем не защищаемых».
В следующем, 1168 году, Скородум выплатил хлебом долг, но подняться не смог — год был хуже. Его смерды, привыкшие к лесу, в безлесной степи чувствовали себя неуютно, болели, мёрли, бежали. Повышать урожайность, обустраивать людей, вкладываться Скородум не хотел. Хотел — хапок. Не получилось. Помер бедняга: в степи замёрз — недодумал насчёт пурги в чистом поле.
Юную вдову с грудной девочкой на руках, Живчик выдал замуж. Точь-в-точь повторив Боголюбского: новый боярин, шапка, земля, жена. Мелочь мелкая: жена, отягощённая ребёнком и кредитом. Хлеб из этого места мы продолжали получать и при новом владетеле.
История имела важные последствия.
Первое: мы свели баланс по хлебу в 1167 г. Взрывной приток новосёлов система выдержала. Улучшилась, усилилась, окрепла. Уменьшать нормы питания не пришлось.
Второе: «мирность границы» и вытекающие из этого возможности были наглядно продемонстрированы. Бояре рязанские аж захлебнулись от слюны. Деньги, публично переданные Скородуму, были восприняты как прибыль.
Напомню: средняя доходность боярской вотчины около двух сотен гривен. Часть рязанских вотчинников и этого не имеют. Ещё: отсутствие «княжеской милости», «искушение» моими товарами… И тут — вот оно!
Бояре кинулись в Степь. Но… Земля, конечно, божья. А вот управляет ею князь. Через год Живчик довольно похвастался:
— Пустое место попродавал — два ста гривен получил.
— Тю, за ту землю можно было и вдвое взять.
Не знаю о каких участках он говорил, но после моего ответа призадумался и «разбазаривать» перестал. В смысле: поднял цену. Напоминать про «Указ об основании…», по которому «все земли до граней селений русских православных…» имение моё, я не стал. «Приподзакрыл глаза». Хлеб — важнее. Пока. А там… поглядим.
Не враз, не «всеми четырьмя лапами», как Скородум, но боярство пошло в Степь.
* * *
Впервые я мог воочию наблюдать одно из главных явлений в истории России — «Поднятую целину». Не новины, починки, огнища, как вгрызается хлебопашец в лесные дебри, а — «Здравствуй, земля целинная!».
Пол-тысячелетия, с 16-го по 20-й века, Русское царство, Российская империя, Советский Союз шли в Степь. Не за блестяшками, алмазами, паволоками, конями, рабами… За хлебом. Чтобы самим его вырастить. Единственный, куда более короткий и мягкий аналог в истории — освоение Северо-Американских равнин.
В 21 в. это сводят к нескольким сюжетам. Бегство русских холопов от бояр на Дон и возникновение Донского казачьего войска, бегство русских холопов из «шляхетского быдла» и заселение Слободской Украины, перевод Черноморского казачьего войска на Кубань…
Потеряна одна из важнейших составляющих: помещики.
Как освоение Дикого Запад связано с экспансией плантаторов южных штатов, вроде «Всадника без головы», так и в России стержнем переселения (после гос. обязанных или одновременно с ними) были аристократы.
Веками именно дворянам власть передавала «дикие земли». И помещики выводили в Дикое Поле своих крепостных.
Например, мещеряки, угро-финское «болотное» племя, жившее между Окой и Клязьмой, оказалась «русскими» в степных губерниях в 18 в. Этот же «вывод» составляет афёру Чичикова с «мёртвыми душами».
Аристократы получали тысячи десятин. Множество таких владений существовало ещё в начале 20 в. Одно — и в 21 в.: Аскания-Нова. Эти земли в 1828 году Николай I по 8 копеек за 1 га продал немецкому герцогу Фердинанду Фридриху Ангальт-Кетгенскому из династии Асканиев. Тех самых, которые нынче враждуют с Вельфами за Саксонию и бьют славян возле будущего Берлина.
Читать дальше

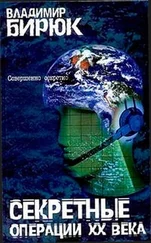
![В Бирюк - Обязалово [СИ]](/books/391348/v-biryuk-obyazalovo-si-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)