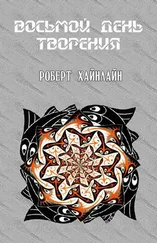«Мы к вам», – говорят они, входя в директорский кабинет, но на директора и не смотрят.
Однако директор сам заявляет о себе. «Нет, нет, – говорит он направляющимся к Верещагину санитарам. – Подождите». И решительно становится на их пути; похоже, он готов лечь за Верещагина костьми. «Вы вызывали?»- спрашивает его добродушный. «Вызывал, – признается директор – Но обстоятельства переменились». -«Ничего, мы подождем в приемной», -говорит темный лицом. Он тоже наконец открывает рот.
«Это за мной?» – спрашивает Верещагин, проявляя жгучий интерес к личностям, вышедшим в приемную. «За тобой», – кивает директор. «Ух, какие здоровые! – говорит Верещагин. – Я с ними не справлюсь». Он хочет сказать, что борьба, которая разгорится в приемной, когда он выйдет от директора, закончится не в его пользу. «Ерунда, – успокаивает директор. – Забудь. Продолжим разговор». – «Чего там продолжать, – говорит Верещагин, – раз ты санитаров вызвал». – «Санитары – ерунда, – настаивает директор. – Помолчи. Дай подумать».
И директор думает минут пять – с несвойственной для него наглядностью процесса: морщит лоб, вздыхает, вытягивает губы трубочкой, – раньше он этого никогда не делал. Раньше он, чем напряженнее думал, тем непроницаемей становился лицом. А тут стал вздыхать и вытягивать губы трубочкой. Так только дети думают и нижние чины; например, операторы или лаборанты; в крайнем случае, младшие научные сотрудники, в основном из тех, которые еще в новичках. Вышестоящие работники думают другим образом. Они не вздыхают, не вытягивают губы трубочкой. Глядя на них, некоторые даже начинают думать, что они совсем не думают. Но это ошибка: вышестоящие тоже думают. Но иначе.
«Вот что, – говорят директор, подумав, как нижестоящий. – Ты уйди часа на два, а потом приходи снова. Я за это время все решу я скажу тебе».
Верещагин грозит директору пальцем: «Хитрый ты, – и улыбается ему: – Я выйду, а они меня сцапают». – «Кто – они? – не понимает, директор, он уже все забыл – это тоже одно из характерных черт мышления вышестоящих. «Особенно темный, – говорит Верещагин. – Уж он меня сцапает так сцапает. И толстый тоже, я думаю, своего не упустит». – «Не сцапают, – обещает директор. – Я сейчас с ними договорюсь».
Он выходит в приемную и договаривается. Когда Верещагин проходит мимо, толстый смотрит на него дружелюбно, а темный лицом вообще не смотрит.
На улице Верещагин смеется довольным смехом. «Ну, вот я и вырвался, – смеется он. – Сейчас куплю билет и – поминай как звали».
Он идет на вокзале, прикидывая по дороге, куда бы лучше поехать. Разумнее всего, конечно, в Сибирь. Построить в тайге шалаш и питаться кедровыми орехами. Или лучше вырыть глубокую пещеру и в ней спать. Пещера должна быть просторной, а вход в нее узкий, чтоб не пролез таежный медведь. Если б у Верещагина было ружье, то, пожалуйста, пусть пролазил бы. Верещагин его бы застрелил и питался медвежатиной. Ну, а поскольку ружья нет, то пещера должна быть для медведя недоступной. Верещагин в нее – нырк, а медведь не может, уши мешают.
Верещагин так громко ликует по поводу медвежьей неудачи, так звонко смеется над опростоволосившимся лопоухим медведем, что некоторые из прохожих меняют направление и идут за ним следом.
Среди них – желающие развлечься за счет Верещагина, они надеются на еще какие-нибудь смешные выходки, но кое-кто руководствуется соображениями более высокого рода; например, один подходит к Верещагину и говорит: «Друг, у меня рубль тридцать. А сколько у тебя?» – то есть, говоря обобщенно, предлагает Верещагину выпить с ним вскладчину.
«Я тороплюсь на вокзал», – ответствует Верещагин и убыстряет шаг: ему кажется, что нужный поезд вот-вот отойдет.
Но через два-три квартала он решает, что сначала лучше сходить в кино – как раз и кинотеатр рядом, сто лет он не был в кино, даже не знает, что за фильмы нынче показывает, – в кармане мелочи столько, что Верещагин выгребает полную горсть, он восторженно кричит: «Ого!», но направляется не в кассу кинотеатра, а к будке телефона-автомата, откуда звонит директору института и говорит ему: «Меня нельзя засадить в сумасшедший дом, моим именем названа детская игрушка».
Однако после этого он все же покупает билет в кино. В фойе сумрачно и безлюдно: лето, день солнечный, охотников сидеть в темном зале мало. Посреди фойе вавилонским зиккуратом возвышается эстрада, на ней барабан и больше ничего. Будь здесь барабанные палочки, Верещагин ударил бы в барабан. Но палочек нет – их унесли или потерялись. Может быть, украли.
Читать дальше