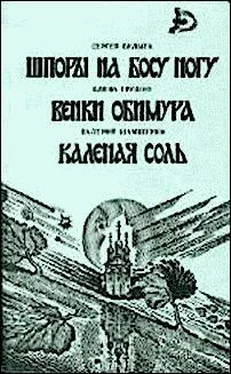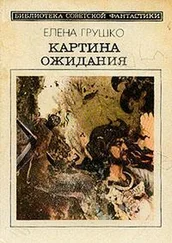— Погляди, не отломали сызнова пальчик у плакальщицы? — спросила одна, и вторая, со всей серьезностью ответив: «Сейчас погляжу», засеменила к стоявшей у входа древней фигуре женщины, воздевшей руки горе.
— На месте пока!
— Ну и слава Богу.
Хранительницы казались столь же древними, как эта статуя. Егор улыбнулся, и вдруг из-за стенда вышла Юлия.
— Кто же ей палец ломал? — встревоженно спросила она.
— Да мало ль кто? — обрадовались хранительницы возможности поговорить. — Шел какой-нито шалопай да схватился. Спаси Бог, что реставраторша у нас мастеровитая, и не углядите, пожалуй, который пальчик был отломанный.
Юлия приглядывалась к руке плакальщицы. Егор не сдержал любопытства и тоже подошел.
— Я не вижу, — призналась Юлия. — А вы?
— И я не вижу…
— Вот же, вот, — шепотом подсказала одна старушка, с мягким седым узелком на затылке, а вторая, коротко стриженная, с гребенкой в сивых волосах, торжественно провозгласила:
— Указательный на левой руке!
— Даже не заметно! — горячо сказала Юлия.
— Абсолютно, — согласился Егор.
Похоже, старушки были польщены.
— А во втором этаже статуя Венеры стоит, так ей третьего дни кто-то яблочко в руку положил! — сообщила седенькая хранительница.
— Неужели? — почему-то обрадовалась Юлия.
Вторая тоже не осталась в стороне:
— А в зале XVII века деревянный старец (она произнесла это слово с ударением на «е») стоит с протянутой рукой. И каждый вечер после закрытия у него из ладони копеечки вынимают. Кто ни пройдет, всяк подаст Христа ради.
Юлия покачала головой. Ее глаза светились, сияла улыбка. И Егор улыбнулся в ответ — впервые в жизни улыбнулся ей! — и растерялся от этого, и сказал:
— До чего же тут хорошо!
Мягкий свет лился с потолка и белых стен.
— Конечно, — гордо сказали хранительницы, — тут ведь Красота.
— Господи, как чудесно здесь работать, правда? Годы уходят, а Красота остается, — задумчиво молвила Юлия.
— А вы как выйдете на пенсию, так и приходите к нам служить, — очень серьезно предложила та, что с гребенкой.
— Да, на пару и приходите, — ласково сказала другая, глядя то на Егора, то на Юлию…
…Сегодня ночью они вспоминали об этом, и Юлия сказала:
— Ты весь светился тогда, и волосы, и глаза, и улыбка твоя светилась!
Да. Но почему они тогда ничего не сказали друг другу? А теперь поздно! Да и не нужно.
Егор почувствовал, что вот сейчас тоже уткнется лицом в ладони, как Наташа… Хотя нет, она уже не плакала, а о чем-то тихо рассказывала Антонову. И тот вдруг выпалил:
— Нет, это невыносимо! Егор, неужели у вас здесь нет никакого средства, среди всех этих трав?
— Чего? — не понял Егор.
— Приворотного зелья! — отчеканил Антонов. — Неужели мы так и будем стоять и смотреть на это удручающее зрелище? — Он кивнул на Наташу, в глазах которой опять собрались слезы. — Вот это не подойдет? — склонился он к высокому синецветному журавельнику.
— Нет, это герань луговая. От колотья, ломоты в костях, икоты пользовали ею, даже голову мыли от глухоты, а вот присушка… нет, нужен хотя бы девясил, — ласково коснулся Егор желтого лохматого венчика.
— Ну?! — настаивал Антонов.
— Я могу приготовить, — растерялся Егор, — но ведь это в любом случае должен выпить Иван.
— Действительно! — озадачился — Антонов. — Я как-то забыл. А заговор? Выйду не благословись, встану не перекрестясь… Подождите, сейчас вспомню. — Он нахмурился, но тут же лицо его прояснилось. — Ну, Егор! Вы должны знать! У вас память лучше моей!
— Да, — просто сказал Егор. — Я знаю. Иди сюда, Наташа. Он подвел девушку к окну. — Смотри на восток — и повторяй за мной… На море, на Окияне, на острове Буяне, есть бел-горюч камень Алатырь, никем не ведомый; на этом камне сидят тридцать три тоски. Мечутся тоски, кидаются тоски и бросаются тоски через все пути, и дороги, и перепутья. Мечитесь, тоски, кидайтесь, тоски, бросайтесь, тоски, в буйную голову рабы Божьей…
О Господи!.. Но, кажется, никто ничего не заметил, Наташа говорила все как нужно:
— …в буйную голову раба Божьего Ивана, в лик, в ясные очи, в сахарные уста, в ретивое сердце, в ум и разум, в волю и хотение, во все его тело белое, во всю кровь горячую, в семьдесят семь суставов, жилочек и поджилочек, чтоб он тосковал-горевал по мне, нигде без меня, рабы Божьей Натальи, пробыть не мог, как рыба без воды. Думал бы обо мне — не задумал, спал бы — не заспал, ел — не заел, пил — не запил, чтобы я ему казалась милее свету белого, милее солнца пресветлого, милее луны прекрасной, во всякий день, во всякий час, во всякое время: на молоду, под полн, на перекрое и на исходе месяца…
Читать дальше