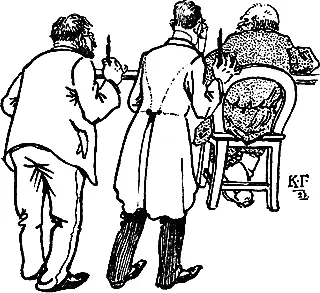Золя мог работать только при спущенных шторах.
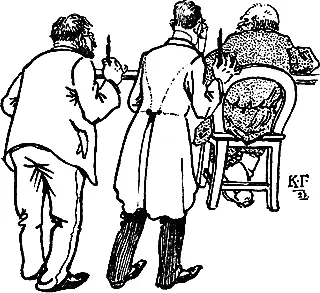
Толстой и ручки.
Количество потраченного времени на создание вещи у каждого писателя удивительно разнообразно:
Брет-Гарт проводил несколько дней и недель, прежде чем находил какой-нибудь коротенький рассказ подходящим к печати.
С другой стороны, Виктор Гюго написал своего «Кромвеля» в три месяца, а «Собор Парижской Богоматери» в четыре с половиной.
Опять обратное — Лев Толстой мог сидеть над своими рукописями неограниченное время. И интересно, по словам Ив. А. Белоусова, готовность к печати определял не сам Толстой, а кто-нибудь из его секретарей.
Обыкновенно Лев Николаевич писал на крохотных в ⅛ листа страничках, которые аккуратно складывал стопой перед собой. На другой день его секретарь тщательно переписывал на такие же листочки написанное Толстым и клал обратно на стол. Толстой прочитывал, исправлял и снова клал на прежнее место, чтоб секретарь опять переписал. И так такой круговорот шел до тех пор, пока секретарь не находил рукопись готовой.
То, что нашего великого писателя с трудом удовлетворяло написанное, говорит тот факт: однажды к нему обратился с просьбой известный в то время гласный думы Челышев, заготовить ему проект этикетки, которую можно было бы наклеивать на водочные бутылки. Содержанием этикетка должна была говорить о вреде пьянства.

Бунин.
Проект подобной этикетки Челышев хотел внести на обсуждение государственной думы. Несмотря на всю утопичность идеи, Лев Толстой с жаром принялся за работу и проведя у себя в кабинете несколько часов и испортив не один десяток восьмушек, в общем написал: что вино вредит здоровью, что оно разоряет население, что оно влечет за собой пороки, что его не следует продавать, а тот кто продает — преступник.
Конечно, подобная этикетка не только не попала на обсуждение думы, но она и не дошла до нее.
Однако, в этом примере характерна упорная усидчивая работа писателя.
Уэльс, например, задумывая вещь, писал в предобеденные часы, дав себе задачу написать в день 6–7 тысяч слов. И уже после того, как его вещь была законченной, он 10–12 дней употреблял на правку.

Леонид Андреев.
Джек Лондон, давая интервью одному из американских корреспондентов, сообщил: «что пишет исключительно ради денег и работает так же как любой рабочий. Следовательно у меня есть норма, моя выработка 10-15 тысяч слов, остальное на правку корректуры и другие работы по изданию книг.»
Н. МОЖАРОВСКИЙ — Ляска-Паук.
(Рассказ).
Рисунки худ. Мещерского.

— Чудно, — подумал Ляська и подальше отошел от ворот домзака, — Полтора года просидел «закуроченным», и вдруг — воля!
Поглядел кругом и с'ежился. Неловко как-то было. Казалось, что все глядят на него, точно знают, что только выскочил.
— И впрямь ли выскочил? — подумал Ляська.
Не верилось. Воля пришла уж как-то неожиданно. В ушах еще до сих пор стоял гул коридоров, лязганье задвижек, замков и крики братвы.
— Прощай, Ляська! Не зазнавайся. Ворочайся поскорее!
Вспоминалось, как во-сне: Сидел у окна, глядел через решетку во двор, без мыслей, без желаний, по-тюремному. Вдруг слышит, кричат у стола.
— 237! Похотина с вещами!
Подумал, что на пушку хотят взять, купить. А внутри как-то сжалось, дернулось по-настоящему, не попустому. Помимо воли.
— Ляську с вещами! — кричали. — Паука на волю!
Руки ходили во все стороны, ноги не слушались По камере, без толку, тыкался из угла в угол. Что-то собирал, перекидывал, а собирать-то было нечего. Последний пиджачишка и тот проставил в «стос». Больше ничего не помнил. Знал только одно, что никак не мог найти дверь, чтобы выйти, и кто-то взял за плечи и силком вытолкнул.
Оглянулся. Высокие каменные стены, железные ворота, трубы корпусов и больше ничего. Глядел долго, пристально, по-паучиному, не моргая. Как-будто сквозь стены хотел проглядеть, что внутри.
— Ишь, — сказал Ляська, — сидел, вон как рвался на волю за эти стены, а выскочил, — жалко. Как что-то оставил, потерял. Истинно, для «блатного» тюрьма — дом родной! И по-ребячьи улыбнулся до ушей широкой детской улыбкой.
Читать дальше