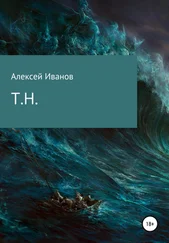– Живут же люди.
– Да, кстати, – заметила их заминку её маман, – ты знаешь, что Джонсон уже не девственница? И что до тебя у неё уже был парень?
– Парень? – удивился он. «Так и чего же это ты тогда тут крутишь передо мной задом?» Пробурчал в нём Банан в сторону.
– Его мама держала рынок «Южный». И когда Джонсон была уже беременна, она заявила что ничего и слышать не хочет о ребёнке! – и чистота стекла стекла, сверкая, из её глаз.
– Мама, прекрати! – произнесла Джонсон изменившимся голосом. – А то я сейчас и сама заплачу!
– И ей на пятом месяце беременности пришлось делать вызывающие роды! – с трудом, сквозь слезы и накативший ком к горлу, закончила её маман.
– Мама, перестань! – властно крикнула на неё Джонсон. Но вместо того чтобы начать уже с ней ссору, с театральной поспешностью кинулась в материнские объятья.
Чтобы вновь окунуться в море слёз, кругосветку по которому на белой яхте воспоминаний ещё недавно считала для себя уже давно оконченной. Но в лице Джонсон было столько боли, будто бы её снова заставили окунуться, насильно затащили (несмотря на её визги о том, что она уже давно разучилась плавать!) слайды, которые она сделала за время своего путешествия. И которые навсегда вцепились в её память.
– Но ведь я люблю тебя, – признался Ганеша, которому надавили на «кнопку» (Агапе), окончательно раздавив в нём Банана. – Теперь всё будет хорошо. Честно-честно, – попытался он ветхо улыбнуться, протягивая полотенце фразы. – Это было необходимо, поверь мне. Ведь всему происходящему в нашей жизни мы должны быть только благодарны.
Так что их отношения так и продолжали бы топтаться на месте – под шатёр более глубокой взаимности, если бы любившая выпить Джонсон одним угарным вечером сама не перевела их из общения в менее поверхностную фазу. Короновав вечер тем, что вытащила из Ганеши быка за рога. Придав ему (этому быку – Банану, этому homo sa'penis) статус официального соприсутствия в их взаимоотношениях. Что, в свою очередь, потребовало от неё завести на него (на это социальное животное) отдельную учётную карточку. Так что в другой раз, при попытке сбросить его со счетов, Банан поначалу долго фыркал и тёр рогом о стену, пока поняв, что его снова как бы нет, публично не попросил отметить в его учетной карточке простой оборудования, выставив её несанкционированное поведение на всеобщее смущение в кругу её семьи.
Но в тот куражный вечер…
Счастье советского человека – в руках государства. Но совок умер. И счастье вывалилось у него из рук и куда-то затерялось.
Но Ганеша, Джонсон и Ахлис (её одноклассница, являвшая себя прекрасным воплощением образа страдания, радости которой, казалось, были «от противного» бесконечности своего страдания и, подобно розовым цветам лотоса, как бы всплывали на поверхности его океана) и ещё одна соседская молодая чета решили отыскать его у их общего друга, который жил недалеко от «Мореходного училища» в частном коттедже.
Но не застав того дома, они уныло побрели по проспекту обратно, склонённые под гнётом необходимости вести хоть какой-то разговор к асфальту. Какой-то. Но – какой?
В таких ситуациях жизнь, востребовав его разложившийся в морской воде гений, синтезировалась перед ним из паров ментола и эвкалипта в образ Пионера, который был не только натурально широким, но и широким натуралом: «До каких пор будет продолжаться твоя тупость?!» Громогласно спрашивал он Ганешу в воображении. И гигантским судейским молотком из комиксов бил по башке, вынося своё: «Виновен!».
Но это вот его несоответствие Джонсон, её изовесёлому интеллекту, боязнь что в любую минуту Джонсон передумает, и Ганеша будет отвергнут от ея престола гордости, пробуждало в нём «комплекс невротической активности западного человека действия». Что сублимируясь его имиджмейкером Уайльдом в образ денди, дополняло изнутри его шапку, парку, английские тонкие серые шерстяные штаны в едва заметную среднюю клетку и высокие, модные тогда коричневые ботинки из толстой воловьей кожи с чуть выпирающей подошвой как для хождения на лыжах, дорого обошедшиеся ему в Корее, и создавало ему лучшую в его жизни роль топ-мэна на подмостках этой реальности. Заставляя его тогда ценить в сто карат каждое протекающее сквозь него мгновение. То есть то, что неумело и пыталась привить ему Роза ещё тогда, на небритой лавке, своими постоянными отсылками его от себя подальше, раз за разом всё более умело создавая для него все необходимые предпосылки. Плавно перетекшие в Корее в эту возможность. Быть другим, чем он был тогда. Выдавливая из него словесные останки его потрёпанной гениальности.
Читать дальше


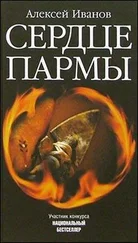
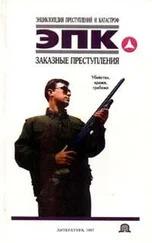
![Алексей Иванов - Боевой жрец [СИ, калибрятина]](/books/27266/aleksej-ivanov-boevoj-zhrec-si-kalibryatina-thumb.webp)