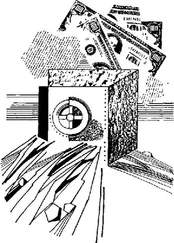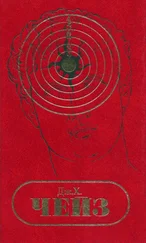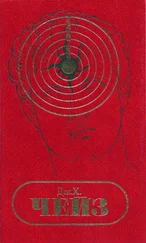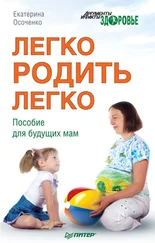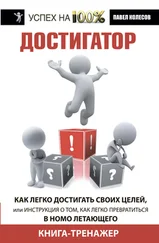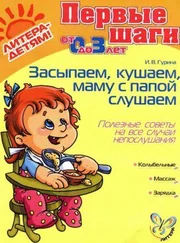Ведь это же очень увлекательное занятие - отвечать на вопросы почти четырехлетнего человека, следить за его живой, непоседливой мыслью, видеть, как она становится все болееупругой и цепкой. И давать ей материал для самостоятельной работы.
Самым приемлемым для Ксеньки материалом оказались все-таки не мои рассказы и не диафильмы, и не гибкие пластинки из журнала "Колобок", и даже не мультфильмы по телевизору, а книжки. Перед сном она слушала почти все, что ей читали, пока что-то вдруг не поражало ее. Тут мы начинали "ходить по кругу" -- читать пятый, седьмой, двенадцатый раз одно и то же. "Скучно же", - убеждали мы с Валей Ксеньку.
"Нет, интересно!" -упрямилась она.
Особенно возмещали меня вначале книжки, в которых герои-звери вступали в отношения, зверям не свойственные.
"Зачем ребенка дезориентировать?" -думал я и даже как-то записал об этом в дневнике. А ребенку нравилось. Он требовал:
"Чуковского! Про крокодила!" И я в конце концов сдавался - читал. Потом понял: эта звериная феерия -озорство воображения. Не назидание, не мораль здесь главное, а раскованная работа мысли, облеченной в образы.
Конечно, мне, "технарю" по образованию, нужна была в детских книжках в первую очередь полезная, максимально точная информация о жизни. И я не сразу понял, что они несут в себе такую информацию, но - закодированную в образах и потому наиболее воспринимаемую детским воображением.
Оказывается, это очень емкий способ передачи знаний: образно действующие в книжках Чуковского, рассказывают не только о разнохарактерных отношениях, добрых и недобрых поступках, умении сочувствовать, помогать, дружить, что-то отстаивать, за что-то бороться. Но еще передают состояние души автора. И как передают! Глаза у Ксеньки начинают озорно блестеть, лицо становится подвижным: на нем -то улыбка, то настороженность, то озабоченность, то снова улыбка.
Но что меня и сейчас не перестает возмущать - это книжки, населенные "плохими" и "хорошими" зверями. Они изо всех сил стараются внедрить в сознание ребенка незыблемую, примитивную схему, в которую пытаются втиснуть сложнейший мир человеческих отношений. По своей железобетонной конструкции эта схема не что иное, как истина в последней инстанции.
Только неоднозначный, полнокровный образ может заставить думать и чувствовать. Назидательные же книжки, лишенные самоценной образности, приучают не к труду ума и души, не к сотворчеству, а к потребительству, к иждивенческой привычке пользоваться чужими выводами. То есть к умственной, а значит, и к душевной лени.
Эту лень порождает уверенность в том, что совсем не обязательно самому думать: любую жизненную ситуацию можно подогнать под одну из схем, объясняющих все. Схема оказывается в роли той самой мамы, которая вывела рослую дочь на горку, держа за руку... Но жизнь настолько многообразна и неожиданна, так легко ломает все и всяческие схемы, что немудрено поскользнуться.
Я могу только догадываться о том, что именно занимает теперь Ксеньку в рассказе Носова "Наш каток", который мы читаем уже вторую неделю (и ведь рассказ-то не для ее возраста)! Но, думаю, дело вот в чем: там действуют живые люди - мальчишки, их родители, управдом. Этих людей она видит каждый день - во дворе, на лестничной площадке. Они для нее загадка. И вдруг рассказ, словно мановением волшебной палочки, делает этих людей для Ксеньки (через забавную конфликтную ситуацию) ближе, яснее. Помогает понять их такими, какие они есть. Дает материал для сравнения и анализа для той невидимой работы, которой она занята сейчас все свое время, не деля его на труд и досуг.
Мы возвращаемся из парка домой. Вверху, в вечернем небе, за сплетением веток скользит - движется вместе с нами - тонкий ломтик месяца. Ксенька останавливается - перестает двигаться за ветками и месяц. Она идет дальше, потом пробегает несколько шагов и сообщает мне.
- И он бежит!
Спрашивает:
- Месяц -это ребенок у Луны, да?
Навстречу нам по аллее неторопливо и молча прошли двое пожилых людей. Когда они оказываются позади нас, Ксенька интересуется:
- А у всех людей есть дети?
- Нет, не у всех.
Она ненадолго задумывается.
- А им грустно, да?
- Очень грустно.
Это нарушает равновесие в ее благополучном мире и потому - не нравится. Пройдя несколько шагов, она предлагает:
- Пусть тетя Маша отдаст тем людям Аню. И у нее останется Нина.
Речь о маме из соседнего подъезда, у которой - двойня.
Пробую объяснить, что тете Маше одинаково дороги обе дочери. Не понимает.
Читать дальше