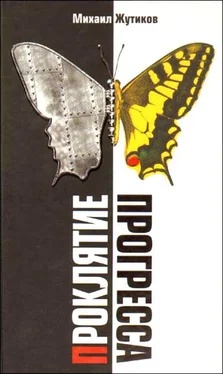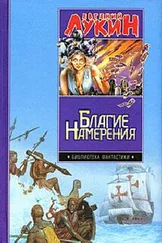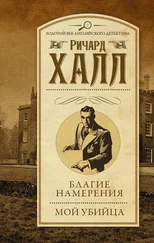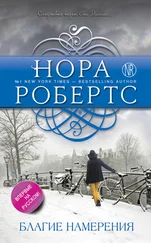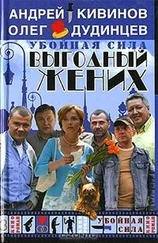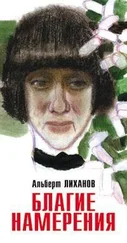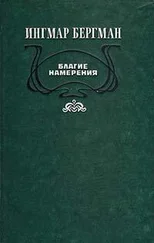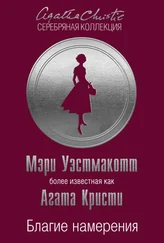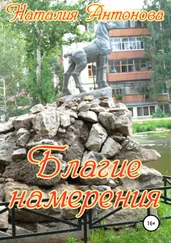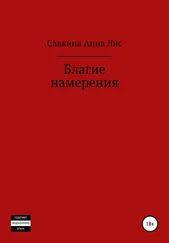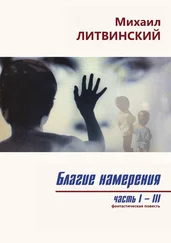Но если все вообще (на самом деле) «вредно» – что же в таком случае иметь целью… торможения? Первобытное состояние? Очередные «лапти для всех»? Где тут место дерзанию? Остается ли вообще что-нибудь на долю научного моделирования, может ли оно оказаться, хоть ненароком как-нибудь, полезно? И… ведь мы как будто начисто отвергали аналитические модели – что же, предлагается выстраивать новые? Не очутимся ли мы сами неприметно и непоправимо в опаснейшем для жизни лагере – лагере оптимистов?
XX век выявил глубокую порочность технологического прогресса, по существу, непримиримость, несовместимость его с жизнью. На новые вопросы ответит одна живая практика новой экологии – экология «торможения маховика», которое она-то, на наш взгляд, и должна направлять. Это опять-таки шанс уцелеть ей самой. По существу, речь идет о резком повышении значимости экологии, о глубоком ее преобразовании.
Вульгарное понимание экологии может состоять (как уже сказано) в том, чтобы полагать (например) ветровые электростанции или водородные двигатели «безвредными»: думая так, отчего не ратовать за их повсеместное внедрение? Ясно, что ветровые станции будут порождать инфразвуковое содрогание земли и воздуха, отпугивать птиц и все живое, водородные двигатели – нагревать воздух и насыщать его влагой и т. д. Здесь есть своего рода запретительный принцип, который обойти нельзя. Нужно понять, что все подобные надежды – вздор. Величественное здание природы осело, треснуло, на наших глазах вырождается, осыпается чистый его узор, зарастает технологическим сором высокий замысел Зодчего. Не нынешняя «экологическая экспертиза», а постановка научных разработок под контроль с той степенью ограничений, какая будет необходима – вот что идет на смену хищнической «свободе», имея целью остановить (не загоняя в подполье) опаснейшие научные исследования и разработки.
Мы все находимся в поезде, который идет не в ту сторону. Поезд этот такого рода, что выскочить из него нельзя. Останов произойдет независимо от нас, от нас может зависеть его катастрофичность; есть некоторые шансы на плавный отворот от свала, куда устремляют жизнь на планете современные технологии. Решениям – подчеркнем еще раз – именно частных задач могла бы содействовать практическая наука: разгребать завалы, которым оказалась подвергнута природа, следует не экскаватором, а вручную, по кирпичику. Просчитанные до мелочей «экологические модели» суть прототипы таких экскаваторов.
На этом первом шаге замена вреднейших технологий на щадящие – конечно же, благо; соответственно, водородные двигатели полезнее двигателей Отто и Дизеля, а ветровые электростанции полезнее атомных. Важность этих промежуточных решений не противоречит вышесказанному. Но, говоря «по-крупному», от природы можно только отступиться, оправится она только сама. Нужно со всей ясностью сознавать, что если наука всерьез возьмется за «спасение природы», земной жизни уже точно каюк.
Повторим еще раз: вовсе не благом человека в нынешнем его понимании, но первичностью природы , то есть приоритетом ее интересов, будет определяться стратегия ближайшего будущего, сколько его ни отпущено нам. В контексте деловых или политических традиций это прозвучит странно – но, быть может, многие из традиционных взглядов развеются как дым; стимулы выгоды будут перемещаться в соответствии с перемещением экономических категорий, с изменением самой экономической парадигмы, а многие из нынешних интересов человека будут потеснены интересами выживаемости его совместно с природой.
Научный метод – изощренный и потенциально небезполезный инструмент – нацелен нынче против природы, как топор против дерева. Ей, бедной, нечего от нас ждать: мы враги ее. Превратить современную науку «из Савла в Павла» способно, вероятно, только чудо Божие. Чудес преображения мы не отвергаем, но, подобно апостолу Фоме, лучше бы прежде убедиться. С другой стороны, «новоинквизиторские» настроения (а столкнемся с ними скоро и повсеместно!) не приблизят к истине: разбирать завалы должны специалисты . Таким образом, речь никак не идет об ограничениях в научном образовании, – скорее, оно получает новый стимул.
Поворот к новой технологической философии только отчасти облегчается тем, что решению подлежат не общеглобальные, а частные задачи. Но фактически это последний шанс науки на реабилитацию и на предоставление обществом приемлемых условий существования научным школам. Полезно быть готовым к переменам, не дожидаясь (по возможности не допустив) того момента, когда мировая энергетика, основанная исключительно на паразитизме, и развитые на ее базе технологии лопнут с еще большим треском, чем коммунизм. Эти перемены необходимо должны быть постепенны — но и серьезны: демонтаж ГЭС на крупных реках и АЭС в мире, мировой запрет на добычу нефти, на мощное радиоизлучение, на космические запуски, последовательное усечение ветвей химического синтеза, введение в мире согласованных ограничительных законодательств и др.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу