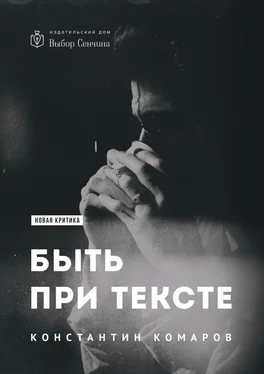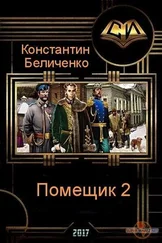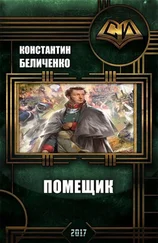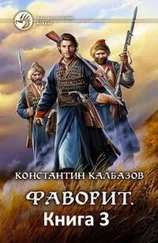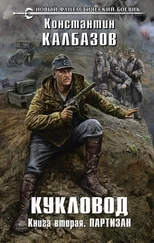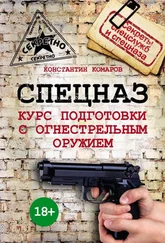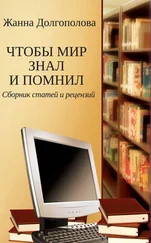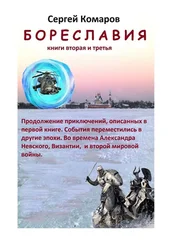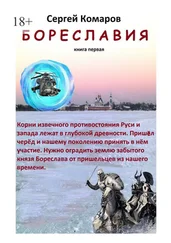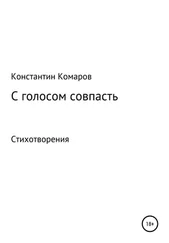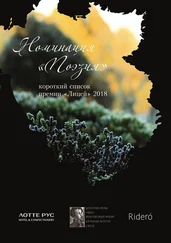Освоение и приятие мира через болезненный и мучительно-продуктивный опыт пограничных ситуаций является лейтмотивом и в стихах вологодского поэта Марии Марковой(1982 г. р., «Знамя», №8) – поэта, в случае которого можно уже со всей ответственностью говорить об обретенном творческом «самостоянье». Маркова удивительным образом сочетает пушкинский протеизм, тютчевскую философичность, пейзажное мастерство. Перевоплощение автора в саму стиховую ткань происходит здесь со скоростью пастернаковского «светового ливня». Отнюдь не сухой остаток ее стихотворений подключает нас к уникальному опыту трагедийного упорядочивания хаоса и воссоздания расколотого мироздания в слове, воссоединения телесно-духовного единства миробытия: «Не видят даже эскулапы, / как иссякает свет души. / Никто не видит, как пустеет / внутри, и остаются – да! – / лишь тела восковые стены / и слезок ломкая слюда»; «Должно быть, жизнь – не то, что мы хотим, / не то, что чувствуем, не смена лет, не даты, / а капель блеск, обвалы снега, дым / и облаков слоистые агаты»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Не случайно сайт, посвященный Уральской поэтической школе (УПШ), и книга Анны Сидякиной о ней называются «Маргиналы». Мне кажется, это очень удачное и правильное название.
Здесь пляшу от печки, то есть от себя любимого. В одной из моих поэтических рефлексий над местом обитания, «где камень так простуженно сипит / под бурами, ломами и кирками» , срединное положение Урала предстает как окуляр, через который видится «бессознательное» России («Я только здесь учуять это смог, где Азия целуется с Европой»), и именно нахождение на шве позволяет прийти к обреченно-утешительной коде: «Тетрадь открыл – стихи переболят: здесь все обычно переболевает» .
Другие города «уральского треугольника» – Челябинск и Пермь, а также Нижний Тагил с его «поэтическим Реннесансом» – заслуживают отдельного разговора в выбранном аспекте. Работы на эти темы уже появляются.
Здесь нельзя не упомянуть о знаменитом свердловском конструктивизме, о котором Вячеслав Курицын справедливо, на мой взгляд, сказал: «По совести, среди старой архитектуры Свердловска шедевров никаких нет, и всю прелесть им придает социалистическое окружение – великолепные конструктивистские силуэты (индустриальность как идея) и заводские силуэты, например, ВИЗа (индустриальность как факт)» [13].
Сюда же отнесем и довольно частое упоминание единственной городской речки Исети, перетекающей в поэзии во многие другие реки, в т.ч. и мифологические. Чтобы далеко не ходить, цитирну себя: « Но в лето прочно въелась осень, и в Лету вылилась Исеть».
Кстати, помянутый Сахновским и многими нелюбимый памятник Свердлову (тоже парадокс: имя города прижилось гораздо сильней, чем фамилия революционера) откликается, например, в стихах замечательного и незаслуженно непрочитанного поэта, певца ВИЗа Владимира Мишина, который, апеллируя к известному стихотворению Маяковского «Екатеринбург-Свердловск», пишет: « И впору открыть новый пост милиции / под истуканом в дурацкой фуражке. / Явило новое время традицию: / ночью раскрашивать задницу Яшке».
Во втором и третьем томах – уже «живет», что любопытно…
Вычитал тут в одной эзотерической книге, что радиация в малых дозах у подготовленных к ней реципиентов вызывает резкий всплеск духовно-ментальной энергии. Думаю, для обитающих на Урале «тонких тел» это актуально.
Александр Кушнер в частном разговоре как-то дружески упрекнул меня за почти полное отсутствие в стихах екатеринбургской конкретики (названий улиц и т. д.). Это действительно так, упрек принимается, но моего собственного субъективного ощущения многих своих стихов как насквозь свердловских все же не отменяет. К вопросу об отсутствии и наличии.
Читать дальше