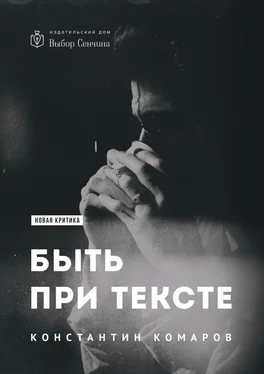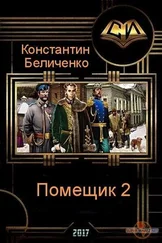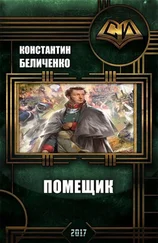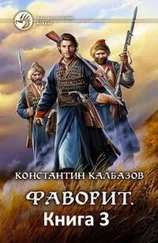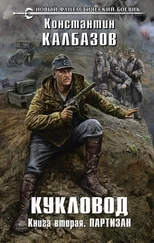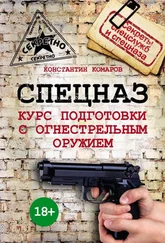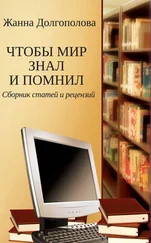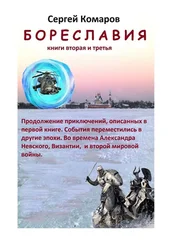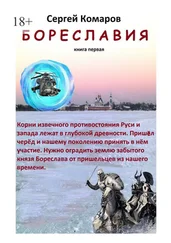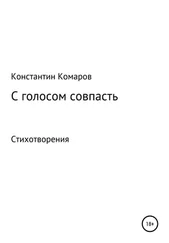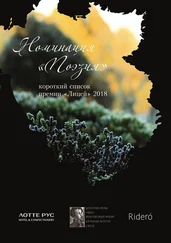Прежде всего взглянем на количественный показатель (первый и, пожалуй, последний чисто объективный критерий в наших разысканиях). Нельзя сказать, что подборок молодых поэтов в рассмотренном корпусе журналов – много. В среднем, это примерно одна подборка на два номера или на семь-восемь подборок «старших». При этом очевидна различная политика того или иного журнала по отношению к молодым поэтам: так, на страницах «Урала» и «Невы» они представлены довольно широко, тогда как, например, в восьми номерах журнала «Октябрь» не представлено ни одного поэта, родившегося после 1980 года. Журнал «Волга» явственно тяготеет к авторам авангардно-экспериментального толка, а «Знамя» ориентируется на участников своего семинара на форуме в Липках.
Оставим за рамками данной статьи безбрежные вопросы о том, что вообще «возраст» значит в поэзии, насколько влияет на нее, и попробуем, прекрасно понимая неблагодарность такого занятия, сгруппировать представленных в журналах молодых поэтов в несколько когорт, лишний раз оговорив понятную условность и субъективность такого деления, проницаемость границ между выделенными группами, уязвимость выводов и обусловленную жанром обзорной статьи неизбежную поверхностность суждений.
В журнале «Арион» (№1) опубликовано два стихотворения екатеринбургского поэта Александра Дьячкова(1982 г. р.) 26 26 Сразу отмечу, что далеко не во всех случаях в подборках указан год рождения автора, приходится искать эту информацию дополнительно. Мне кажется, этот элемент должен обязательно присутствовать в кратких биографических справках, предваряющих подборки.
. За стихами Дьячкова всегда видна их биографическая основа, они неизменно «примагничены» к судьбе автора, проще говоря, прожиты и пережиты. Он пишет как бы перед лицом Бога, но создает не православную поэзию в ее ортодоксальном понимании, а духовную (от слова «дух») лирику, на равных исполненную смирения (не заемного, но выстраданного), зрелого приятия жизни и скрытого экзистенциального драматизма: «Спасибо, Господи, за грязную весну, / разбитую, как первые кроссовки, / за русский катехизис – за шпану, / избившую меня на остановке» . Дьячков успешно работает в рамках своеобразной поэтики «благотворного излома». Основной, религиозный по своей сути, «месседж» этих стихов бытийно достоверен, потому что под ним в прямом смысле «струится кровь». По словам Юрия Казарина, Дьячков «обладает редким даром соединять социальное, внешнее, грешное, пошлое и грязное с бытийным, духовным и провиденциальным. И синтезатором двух таких разноприродных сущностей является боль» 27 27 Казарин Ю. Свобода воли стоит на боли… // Урал. 2015. №9.
. Избрав подобную стратегию, довольно трудно не сгинуть в плоской публицистике, однако поэт этого виртуозно избегает, вызывая читательское доверие и готовность к сотворчеству.
В схожей тональности написаны и стихотворения Ксении Толоконниковой(1981 г. р., «Знамя», №7): тот же напряженный разговор с Богом, те же поиски выхода на свет из сумрачных душевных блужданий, то же плотное и выстраданно-благодарное взаимодействие с внешним миром (в котором поэт прозревает тонкие нюансы), обеспечивающее чисто духовным интенциям лирическую конкретность: «Я не боюсь. Иду не так / и не туда. Но, между прочим, // совсем другая темнота / сегодня ночью» . Одно, особенно показательное, стихотворение хочется привести целиком – здесь поэт ненавязчиво расшатывает устоявшуюся семантику рифмы «твердь – смерть», рифмуя «твердь», напротив, с «бессмертьем», и дает нам точную и полновесную картину жизни души, ее поисков, неизбывной и мучительной диалектики вещного и вечного, тактильно точное описание первооткрытия мира. А именно освоение мира заново во многом является метасюжетом поэзии как таковой:
полу-stanza №2
Еще микстура на губах
не обтерпелась, не обсохла,
еще весь день как бы впотьмах,
спросонок, путаясь в шагах
по дому бродишь; ладишь плохо
с кофейником и утюгом
с определенностью и твердью,
с дверной пружиною тугой.
Со всем, что не берут с собой
в побег, в изгнание, в бессмертье.
Предметное начало, пронизывая духовное, парадоксальным образом делает внутренний потенциал этих стихов гораздо мощнее. Но на поверку здесь все закономерно: небесное познается через земное, и овладение тонким поэтическим инструментарием этого познания представляется, на мой взгляд, насущной задачей для сегодняшней изящной словесности.
Читать дальше