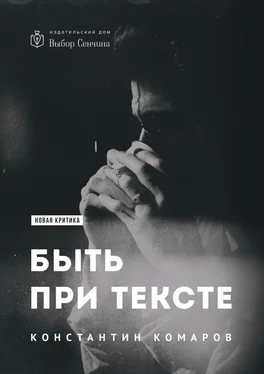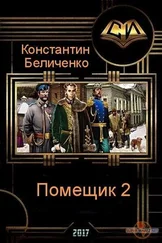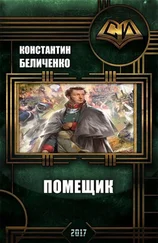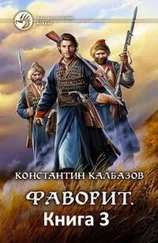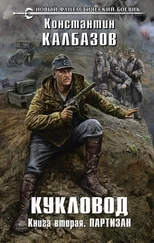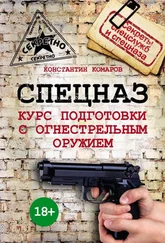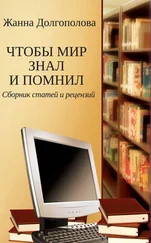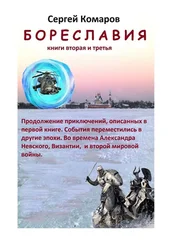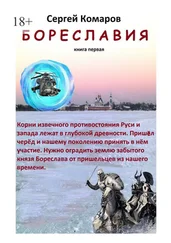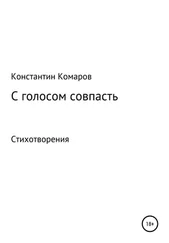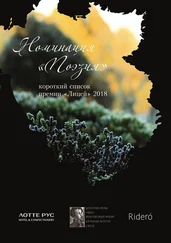1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Постоянно для таких стихов ощущение замкнутости, безвыходности, узости и тесноты. Черно-белый город, лишенный не просто красок, но самой возможности иных цветов. Здесь протоколируется даже природа: « Это время твое – это глухонемое кино. / В черно-белом Свердловске заносят снега – в протокол» (Евгений Туренко). Город как будто вынут из пространства и помещен непонятно куда – видимо, во вселенский вакуум 16 16 Как, например, Тагил у Евгения Туренко : «Это город Беспамятенск, Лжевск или, скажем, Незнань» . И у его учеников: «Город задушит как ты не (-) любовью / Гладкие ноги тагильские бедные лизы» (Екатерина Симонова), «На свои чаевые деньги, / заколоченные вчера, / Город, вставший на четвереньки, / квасит лажу из топора. // Кипяченые тагильчане / Опускают бумагу в чай. / И кричат по ночам: «Начальник, / свет над нами не выключай!» (Руслан Комадей) и т. д.
. Хрестоматийными уже стали строки Андрея Санникова: «Я в закрытый свой вышел Свердловск / и, вдыхая болезненный воздух, / пересек его за три часа. / Это было второго числа, / в марте месяце, после морозов» 17 17 НО: стоит вспомнить и предшествующую строчку: «Пока что – жилось» , и картина опять-таки корректируется.
. Сюда же примыкает, например, Александр Вавилов, поэтике которого в принципе свойственен тотальный герметизм: «В шлеме – музыка. Центр. Вокруг – Свердловск. / Синие лампы. Ампулы. Капли на рафинад» . Зима здесь, похоже, вообще не кончается: «Что ж, приступим к ремонту, хоть скоро начнется зима, / С неизбежностью, свойственной этому времени года. / В грязных ватниках жмутся друг к другу пустые дома, / Как бродяги, забывшие жаркое слово „свобода“». (Алексей Вдовин); «и на замерзшее рагу / похожи улицы Свердловска» (ваш покорный слуга); «В предотъездной тоске сверхпромышленный город / озираю стою, / но его абсолютный лирический холод, / Лена, не воспою» (Олег Дозморов). Но и лето – если наступает – не лучше: «Мне шестнадцать, граждане. В Свердловске – лето, / пыль и радиация, больше ничего» (Олег Дозморов). Пространство сие в своей агрессии порой просто опасно физически: «Меня уронила скамейка, / Меня растоптала земля, / Расплющила узкоколейка, / Трамвайным звонком веселя» (Мария Кротова).
Тем не менее, за какой мотив здесь ни возьмись, он всегда амбивалентен, двойственен и мерцающ. Свердловск опровергает себя на каждом шагу. Вот Сергей Нохрин, интимно обращаясь к городу как к «подвыпившему отчиму» , демонстрирует, переворачивая Маяковского, как его (города) обезличивающую силу, так и антитезу – обнаженную личностность отношений с ним: «Ты сам превратился в подобие знака / из воли, Урала, труда и энергии. / Твой голос потерян и лик обезличен, / ты – призрак, мираж, отраженье в колодце. / Мой отчим… но тут, заплутав в очень личном, / луженое горло мое поперхнется». Это связь кровная, смертная, потому и трагический оптимизм Владимира Мишина не выглядит натянутым: «Я стал бы жить в любом конце страны, / а умирать согласен на Урале! // Вот пусть прожить сумеют без меня / Ташкент, Тифлис и прочий Берег Крыма…» Сергей Слепухин, описывая унылые провинциальные будни в «Письмах из провинции» («дали горячую воду выпало экое счастье / лето никак не наступит холодно и ненастье <���…> свет отключил свердлэнерго чтоб ему было пусто / будем писать при свечке фига ли мы ж не баре»), завершает на относительно мажорной ноте: «а так ничего зойка зовет к себе в воскресенье / ставила богу свечку за упокой во спасенье», показывая, что речь идет все-таки о жизни, а не только о выживании. А вот Елена Тиновская, печально оглядев неизменный «город тяжелопромышленный», «на окраинах сосны да ржавые / Трубы все, черт-те что, гаражи», все-таки и там, где «жить хорошо» , не может забыть «все, что вредными вбито свекровями / И веселой братвой, / Что прошло огневыми любовями / Над дурной головой». Окраины, похожие « на каждые задворки / Пьяной, отмудоханной страны» (Инна Домрачева), оказываются страшно (в прямом смысле слова) 18 18 Так, у Юрия Казарина в одном из стихотворений «страшная Сысерть» противопоставлена « милой Москве»
любимы. Вот Евгения Изварина, уважительно именуя Город с прописной, демонстрирует, что в центре вечной травматичной свердловской зимы таится благородное и благодарное тепло:
Горячего, Город, питья приготовь
в прокуренных чайных, в прожженных кофейнях.
Последние астры свернулись, как кровь,
последнюю просинь царапнул репейник,
увязнув в пороше сухим коготком…
С окраины, Город, до самого центра
ты спички ломаешь, ты ждешь с кипятком —
начала сезона, сниженья процента,
зимы,
потепленья,
рождественских смол,
подмешанных в чай или в кофе – не важно…
И снегу прощаешь кустарный помол,
и мертвые астры целуешь отважно.
Читать дальше