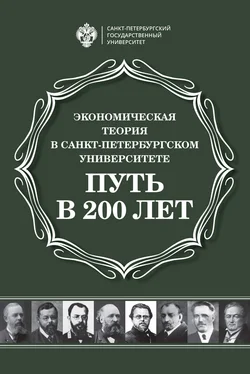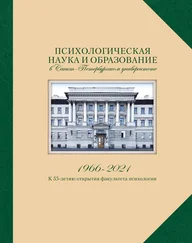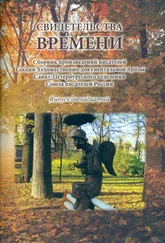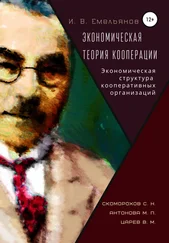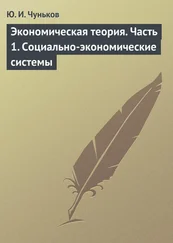Эта катастрофа, конечно, была бы невозможна без молчаливой поддержки Александра I. Великий князь и будущий император Николай Павлович, видимо, хорошо понимал всю нелепость этой истории и вред, который она принесла. В феврале 1824 г., встретив Рунича, он не без сарказма стал благодарить его от себя, от матери и от великого князя Михаила Павловича за то, что в результате травли, организованной Руничем, уволенных профессоров приняли на службу в патронируемые августейшими особами учебные заведения. «Сделайте одолжение, – заявил он ему, – нам очень нужны такие люди, – пожалуйста, выгоняйте их побольше из университета, у нас для всех найдутся места» (цит. по: [Корсакова, 1918, с. 598]).
История с университетским судом сделала Рунича притчей во языцех. Издевался над ним не только Николай Павлович, но и литераторы. Так, А. Ф. Воейков, в своей знаменитой сатире «Дом сумасшедших» писал:
Други, признаюсь: из кельи,
Уши я, зажав, бежал…
Рядом с ней на новосельи
Рунич бегло бормотал:
«Вижу бесов пред собою;
От ученья сгибнул свет…
Этой тьме Ньютон виною
И безбожник Боссюэт!
Локк запутал ум наш в сети,
Геллерт сердце обольстил;
Кантом бредят даже дети,
Дрекслер нравы развратил!»
(цит. по: [Корсакова, 1918, с. 596]).
За свои заслуги в борьбе с инакомыслием Рунич был назначен попечителем Петербургского учебного округа, но проявил себя как совершенно бездарный администратор. Решения, которые он принимал единолично, без консультаций с профессорским корпусом, были весьма непопулярными и в конечном счете привели университет к тяжелому финансовому кризису. Одно из таких решений, на реализацию которого ушло много средств, состояло в том, что в 1822 г. университет был переведен из здания Двенадцати коллегий на Семеновский плац (напротив казарм Семеновского полка), куда было тяжело добираться и студентам, и профессорам, жившим на Васильевском острове. В 1826 г. Николай I отстраняет Рунича от должности попечителя и отдает распоряжение о начале следствия над ним. В «Обозрении состояния Императорского Санкт-Петербургского университета и его округа по хозяйственной и учебной части за 1826 г.» указывалось, что в результате деятельности Рунича на посту попечителя «университет лишился одиннадцати профессоров, из коих одни, принужденные обстоятельствами, сами оставили оный, а другие были отставлены» [Рождественский (ред.), 1919, с. 603].
Разгром университета в 1821 г. наряду с некоторыми другими причинами, как отмечается в «Отчете по Санкт-Петербургскому университету и его округу за 1826 г.», воспрепятствовали ему «возвыситься до такой же степени, на которой находятся другие того же названия учебные заведения в России» [Рождественский (ред.), 1919, с. 597]. Разрушить всегда легче, чем создать. По словам П. Н. Милюкова, «последствием грозы… была замена лучших профессоров поколением совершенных ничтожностей» [Милюков, 1994, с. 287]. Оценивая в целом историческое значение того поворота в политике Министерства народного просвещения, который произошел в последний период царствования Александра I, А. А. Корнилов писал: «…народное… просвещение, сильно двинувшееся было вперед в начале царствования, теперь было подавлено, искажено и изуродовано обскурантскими и реакционными мерами клерикалов и изуверов-мистиков» [Корнилов, 1993, с. 130].
Восстановление университета после разгрома 1821 г. происходило долго и болезненно, но, как отмечал профессор С. В. Рождественский, «труднее всего было восстановить… философско-исторический факультет, гнездо вредоносных наук – философии и естественного права», он оказался «наиболее отсталым из всех» [Рождественский (ред.), 1919, с. LXXXIII, LXXXV]. После ухода Балугьянского, а вслед за ним его ученика М. Г. Плисова, который был уволен в 1822 г. за поддержку профессоров, подвергшихся опале, политэкономию в университете вплоть до 1835 г. стали преподавать непрофессионалы типа Н. И. Бутырского и А. Н. Никитенко. При этом Бутырский особенно отличался верноподданническими настроениями. Политэкономию он читал с 1821 г. по А. Смиту с прибавлениями из Ж.-Б. Сэя и других авторов, но в конечном счете вернулся к преподаванию словесности, причем делал это «в духе стародавней схоластической традиции, лишенной уже всякой научности» [Рождественский (ред.), 1919, с. LXXXVI]. Как отмечал еще в 1870 г. профессор В. В. Григорьев, этот курс он «читал небрежно, и его лекции, доставляя слушателям существенного и полезного весьма немного, весьма много приучали к напыщенности и переливанью из пустого в порожнее» [Григорьев, 1870, с. 73]. Можно предположить, что если таким образом Н. И. Бутырский проявил себя в преподавании науки, где он считался профессионалом, то преподавание совершенно чуждой ему политэкономии было поставлено по крайней мере не лучше.
Читать дальше