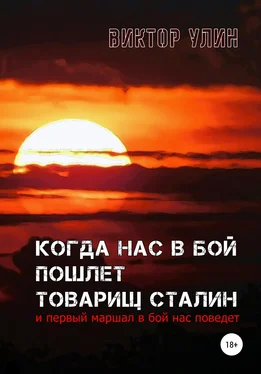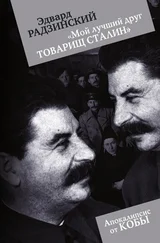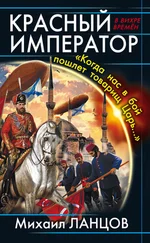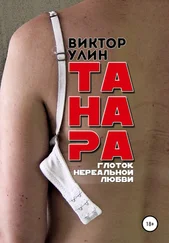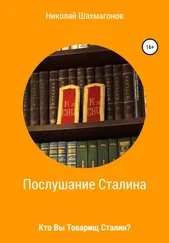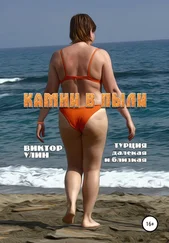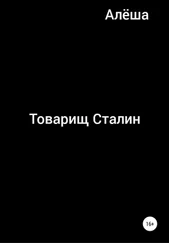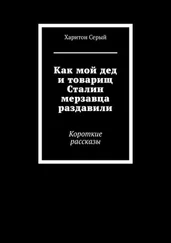За окнами унылого матфака стояла черная ноябрьская ночь; злой снег хлестал по стеклам и выл, как призрак, в щелях разбитых рам.
Я стоял между ножек покоя и пел « Белую акацию ».
Для мамы, которая так ее любила.
Руки мои работали автоматически, и голос сам собой выводил слова.
Я пел и смотрел на маму, и понимал, что вижу ее в такой обстановке в последний раз – и что я, работавший тут с 1988 года уже не смогу находиться среди этих стен, впитавших ее дыхание, когда ее не будет на свете.
Слезы, которые катились из моих глаз, не позволяли мне ничего видеть.
И я молил об одном: чтобы их никого не заметил.
Я пел и заранее оплакивал мою маму, такую маленькую и несчастную, отдавшую всю жизнь этому ничтожному во всех отношениях факультету и ничего не имеющую впереди.
Я оплакивал все лучшее, на что надеялось, и что не сбылось, поскольку шел 2000 – оставался всего год до того, как жизнь моя рухнет по всем направлениям, как треснет моя семья, как мой партнер меня кинет на миллионы, а сам я угожу под суд.
Из-под которого выйду человеком, не уважающим самого себя.
Я не знал ничего этого, но я пел и глотал слезы и старался. чтобы этого никто не заметил.
7
…В час, когда вьюга бушует неистово,
В час, когда в окнах не видно ни зги
Белой акации гроздья душистые
Вспомнить, как прежде, ты мне помоги…
8
Мама умела грозовым летом 2001 года.
Не могу ничего писать о том.
Все это гораздо лучше описано в повести « Незабудки », где молодой ее герой – это в точности я сам.
Жаль, что мне не удалось сделать его судьбу.
Жаль, что мне не удалось ничего.
Все прошло, все затихло под землей.
Белой акации гроздья душистые больше уже не расцветут ни для мамы, ни для кого.
* * *
Но почему?
Почему, почему, почему…
Почему, слыша звуки романса « Белая акация », я, распятый на кресте своей беспощадной памяти – почему при этом кричу…
То есть нет, не кричу.
Мои сведенные судорогой губы шепчут еле слышное и мало кому понятное:
Или! Или! лама савахфани?..
Но нет и не будет мне ответа.
И в ярости злой канонады
Немецкую гробить орду
В железных ночах Ленинграда
На бой ленинградцы идут.
И красное знамя над ними,
Как знамя победы встает
И Кирова грозное имя
Полки ленинградцев ведет!
Из всех направлений поэзии мне наиболее дорог жанр ныне умерший: поэзия гражданского звучания.
Стихи о мужестве, которые служат опорой в жизни, поднимая с колен каждой строчкой, распрямляя и бросая вперед.
Представители младшего поколения, воспитанные на американских суррогатах всего – включая культуру и искусство, сущности априорно чуждые социуму, основанному 200 лет назад проститутками и беглыми каторжниками – эти меня никогда не поймут. Но нет на свете ничего более яростного и экспрессивного, нежели военная поэзия.
А из ее наследия одной из самых моих любимых остается поэма Николая Тихонова « Киров с нами », датированная ноябрем 1941 года и до сих пор несущая мощный заряд.
Я знаю эту поэму наизусть; я часто читаю ее вслух для себя. И всякий раз упиваюсь аллитерациями, рожденными словом « Ленинград », которое служит опорным звуковым элементом произведения.
« Ленинград » – в этом мощном аккорде согласных звуков слышится лязг артиллерийского снаряда, « со звоном » загоняемого в казенник гаубицы на смерть врагу.
И много других ассоциаций, не сразу поддающихся точному анализу, но вызывающих в душе очищение.
А теперь попробуйте перекроить приведенные строфы на современный лад, характерный для « обновленной » России. Замените слово « ленинградцы » на коверкающее русский язык « петербуржцы ». Что получится?
Звон снаряда уйдет. Уйдет вообще весь могучий драйв, которым пронизана поэма.
Чеканные стихи превратятся в гугнивое шамканье безнадежно больного, у которого из-за провалившегося носа образовалась волчья пасть.
Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Так оно и произошло. То, чего не смогли гитлеровские генералы, легко сделали демократы из местных: переименовав Великий город, они не просто отняли Ленинград у России, а практически уничтожили поколения самих ленинградцев.
Когда это произошло? давно, очень давно – где-то в начале 90-х годов. Когда пингвиноподобная в своей наивности русская интеллигенция бурно радовалась иллюзии свободы. Отказываясь понимать, что их свобода заключалась лишь в возврате к весьма обветшалым названиям – в то время, как за спиной восторженных дурачков наживалась всякая сволочь, перекладывая в свой карман все, что было построено родителями этих интеллигентов и родителями их родителей.
Читать дальше