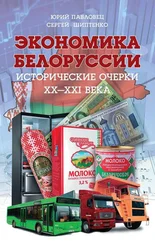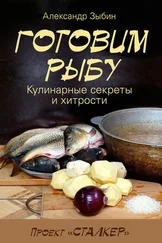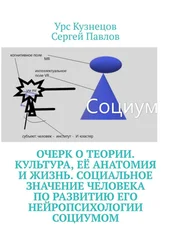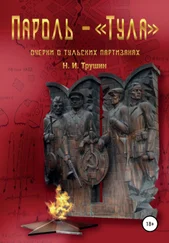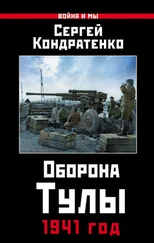Для тульских оружейников, переселённых из центральной России на берега холодного Финского залива, на сыпучие пески с бесконечными болотами с одной стороны и суровым сосновым лесом с другой, а что хуже всего – поселённых среди угрюмых, не православных чухон, Тула представлялась страной обетованной. «Тула – Москвы уголок», – говорит пословица. Действительно, Тула напоминает собою отдалённые кварталы Москвы, а следовательно, имеет картину, дорогую для русского сердца.
Сравнительно тёплый климат, богатая растительность, дешёвая жизнь, а кроме того, бойкий Московско-Киевский тракт с кипучей промышленной жизнью, – всё это не могло быть забыто подневольными переселенцами. Но особенно гордились они на чужбине своим огромным оружейным заводом, где работали их отцы и прадеды.
В далёком Сестрорецке всё тяжёлое из тульской жизни забылось, остались одни сладкие воспоминания. С гордостью рассказывали тульские переселенцы – оружейники о своём заводе, об его силе, об удивительных мастерах, действительно, замечательных искусниках в большинстве металлических работ. При этих условиях старые тульские рассказы повторялись с особенною любовью, объединялись в целый эпос, результатом чего и появился сказ о Левше.
Эпос, как всегда это бывает, объединил около одного лица то, что совершалось многими лицами, героя эпоса заставили пережить и перечувствовать то, что пережило целое сословие за долгое время.
Сказу о Левше дала материалы жизнь тульских оружейников за долгое время развития этого сословия.
Для исследователя сказа особенно трудным для объяснения должно показаться всё, что касается похождений Левши в Лондоне. Откуда тульские оружейники могли получить сравнительно достоверные сведения о Лондоне, его фабриках, заводах, о жизни его обитателей? Правда, в XVII веке подле Тулы находились заводы, где служиломного иностранных мастеров, но среди них были исключительно голландцы и немцы. Два англичанина, Дових и Джонс[152], в конце XVIII и в начале XIX века оказали много услуг тульскому оружейному производству, но для образования легенды они не могли дать много материала. До оружейников должны были дойти более определённые и непосредственные рассказы о житье-бытье отдалённой Англии и об её промышленности, известной всему свету, с которой приходилось конкурировать и тульской металлической промышленности.
Оказывается, что и в этом случае туляки получили великолепный подлинный материал от своего же брата оружейника, командированного в Лондон для изучения оружейного мастерства. Как было уже указано, по мысли управителя завода Веницеева[153] в 1785 году были посланы в Англию два оружейника – Алексей Сурнин[154] и Андрей Леонтьев[155]. Сурнин и Леонтьев, вероятно, были наиболее способными и искусными оружейниками, но, как увидим ниже, в нравственном отношении это были две противоположности. Сурнин был человек трезвый, спокойный, любящий своё дело. Леонтьев же – натура легкомысленная, увлекающаяся, в полном смысле неустойчивая, но, без сомнения, талантливая. В Левше ясно проглядывают две противоположные натуры, слившиеся вместе в один тип. Искусный мастер, с достоинством держащий себя перед Платовым и Царём, внимательный наблюдатель чужой жизни, человек, страстно любящий свою родину, – это лучшая половина Левши, это то, что мы видим в Сурнине. Весёлый собутыльник, проехавший с припевом «ай, люли, се тре жули» всю Европу, а на обратном пути держащий пари со шкипером, кто кого перепьёт, это вторая половина Левши – то, что представляет Леонтьев.
Родители посылаемых оружейников были люди бедные, жившие на заработки детей, что видно из прошений их заводскому начальству о пособии.
Ученики были сначала отправлены в Петербурге, где они встретили поддержку в лице знаменитого протоиерея Андрея Афанасьевича Самборского[156], который был законоучителем и духовником великих князей Александра и Константина[157] Павловичей. Он долго жил в Англии, был женат на англичанке. Самборский, вероятно, посоветовал направить молодых людей к священнику при Лондонском посольстве Смирнову. Граф Комаровский[158] в своих записках говорит, что при нашей миссии в Лондоне из всех чиновников «один только замечательный был человек – это священник нашей церкви Яков Иванович Смирнов[159]; он был употребляем и по дипломатической части[160]». И действительно, без этого благородного человека положение оружейников в Лондоне было бы самое критическое. Сурнин и Леонтьев 20 января 1785 года отправились через Европу в Лондон, так как навигация в Балтийском море закончилась, и прибыли в Англию только в ноябре месяце. В Лондоне они поступили в пансион, где их должны были обучать чтению и письму на английском языке, а также рисованию. По причине замедления в переводе денег на их содержание их нельзя было взять из этого пансиона, и они вынуждены были оставаться там почти до июля 1787 г. несмотря на многократные письма в Петербург священника Смирнова. Наконец, только после того как русский посланник в Лондоне граф Воронцов написал на основании донесений Смирнова письмо Кречетникову, вспомнили о тульских учениках на чужбине и выслали в Лондон необходимые деньги. Отец Смирнов, расплатившись в пансионе, взял оттуда учеников и отправил их в Бирмингам и Шеффильд для изучения стального производства и употребляющихся в нём машин.
Читать дальше
![Сергей Зыбин Льеж и Тула [сравнительный очерк] обложка книги](/books/425618/sergej-zybin-lezh-i-tula-sravnitelnyj-ocherk-cover.webp)