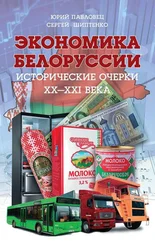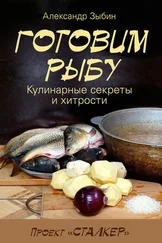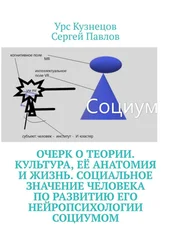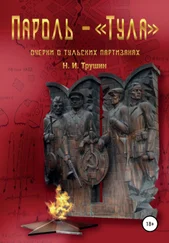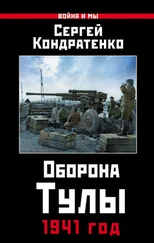V. Надо направить все силы для организации хорошего промышленного музея.
VI. Необходимо изучать рынки сбыта чужие.
VII. Способствовать всеми силами открытию возможно большего числа профессиональных школ.
VIII. Дать населению дешёвый удобный кредит.
Намеченная мною программа, между прочим, давно была признана жизненно правильной обществом для содействия и развития кустарной промышленности [131] .
За 5 лет своего существования общество несмотря на ничтожные средства, насколько было возможно, стремилось осуществить её.
Оно создало музей кустарно-заводской промышленности тульской губернии [132] , где старалось собрать образцы местных изделий. Устроило при музее показательный отдел, где собраны заграничные изделия, образцы лучших орудий производства, образцы металлов, различные технические коллекции. При музее имеется порядочная библиотека.
Придавая огромное значение профессиональному образованию, общество устроило курсы для штейгеров[133] во время усиленной рудной деятельности губернии, открыло классы черчения и рисования, выхлопотало в высшей степени полезную для города художественно-ремесленную школу, предполагает открыть курсы рисования в связи с гравированием и чеканкой.
Организовало при посредстве государственного банка мелкий кредит для кустарей.
Из суммы 30 000, данной в распоряжение кустарного общества для выдачи ссуд рабочим, уволенным с Императорского Тульского оружейного завода, общество исключительно выдаёт ссуды улучшенными орудиями производства, благодаря чему многие мелкие мастерские получили возможность повести работу более правильным и производительным образом.
Развивая начинания «общества» возможно шире, можно влить живую душу в тульскую промышленность, если, понятно, капитал сумеет занять в этой промышленности принадлежащую ему роль.
Я глубоко верю, что Туле предстоит прекрасная промышленная будущность, что выражение «Тула есть русский Льеж» будет употребляется с полным правом. Но для этого нужна дружная, энергичная работа всех заводчиков, фабрикантов, земства, города и общества для содействия и развития кустарной промышленности.
Одинаковые причины влекут за собою одинаковые следствия.
Если в Льеже применение машин, домашнего труда, изучение техники мастерства, рынков сбыта, обширное применение профессионального образования дали бессмертный результат, то, если в Туле будет осуществлена та же программа, успех будет её законным следствием.
С. А. Зыбин.
Печатать разрешается. Тула. Декабря 1 дня 1903 г. За Вице-Губернатора, Испр. об. Старшего Советника Иванов.
Типография Губернского Правления.
Приложение.
Легенда о тульских
оружейниках
Туляк – стальная душа.
Туляки блоху подковали
и на цепь посадили
(Народная поговорка).
Легенда о тульских оружейниках . Своеобразная жизнь тульских оружейников, их искусство и патриотизм не могли не производить сильного впечатления на народ и дали материал для в высшей степени интересного сказа «о тульском косом Левше[134] и стальной блохе».
«Я не могу сказать, – говорит Лесков в своём предисловии к сказу, – где именно родилось баснословие о стальной блохе, т.е. завелось ли оно в Туле, на Ижевске или в Сестрорецке, но, очевидно, оно пошло из одного из этих мест. Во всяком случае, сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров с английскими, из которой наши вышли победителями и англичан совершенно посрамили и унизили. Здесь же выяснилась некоторая секретная причина военных неудач в Крыму». «Теперь всё это уже – дела давно минувших дней и преданья старины», хотя не глубокой, но преданья эти нет нужды торопиться забывать несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер её главного героя». «Собственное имя Левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства[135], но как олицетворённый народной фантазией миф, он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно. Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку ещё в царствование императора Александра I».
По своей полноте и законченности, по верности в оценке лиц и событий, по яркости и цельности типа героя легенда эта, единственная в своём роде, почему-то мало обратила на себя внимания[136]. К сожалению, вычурный язык легенды, дешёвое каламбурство, рассеянное во многих местах, несколько уменьшают её достоинства[137]. Очень возможно, что эта сторона легенды больше обязана самому Лескову, любившему разные словечки, чем народному остроумию. Во всяком случае, легенда много бы выиграла, если бы Лесков освободил её от того наносного балагурства, которое в ней появилось в силу личных особенностей рассказчика и не свойственна (?) ей, как народному эпосу, обладающему всегда ясным, спокойным, серьёзным языком[138].
Читать дальше
![Сергей Зыбин Льеж и Тула [сравнительный очерк] обложка книги](/books/425618/sergej-zybin-lezh-i-tula-sravnitelnyj-ocherk-cover.webp)