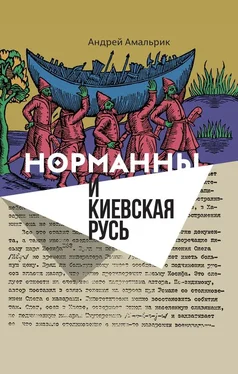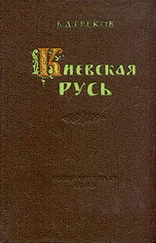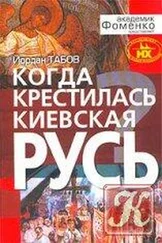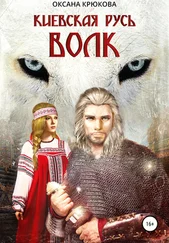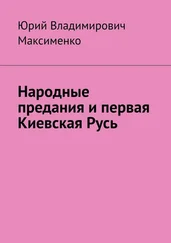Особенно на несообразия этого эпизода указывал М. С. Грушевский, доказывающий, что не Киев был захвачен походом из Новгорода, а Новгород походом из Киева (История Украини-Руси. Т. 1. С. 363–365).
ПВЛ. Т. 1. С. 20.
Гаркави . Сказания… С. 127. Ф. Вестберг, чтобы как-то объяснить этот текст, предлагает читать вместо Ал-Дир – Игир (Игорь). Вестберг Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе (ЖМНП. Ч. 13–14. 1908. С. 396). Довольно характерный пример большего доверия к позднему памятнику, чем к раннему.
Их набег на Константинополь – дело рук летописца, открывшего этот набег у продолжателя Амартола и приписавшего Аскольду и Диру как предшественникам Олега (в Начальном своде этот набег упоминается без связи с ними). Составитель ПВЛ вообще прокорригировал Начальный свод, сделав Аскольда и Дира боярами Рюрика, чтобы подчеркнуть незаконность их княжения и зависимость от родоначальника династии, поместил их набег после призвания князей и сообщил о смерти Рюрика, что забыл сделать его предшественник.
Составитель ПВЛ отнес его на третий год по вокняжении Олега (879), как и второй поход Игоря поместил на третий год после первого. Вокняжение Олега он отнес к 879 году по следующей причине: годы Олегова княжения, как и княжение Игоря, определялись в народных преданиях эпическим числом 33, а из Начального свода было известно, что Олег умер сразу по возвращении из похода; вычтя из 912 (даты договора, а следовательно, и смерти) 33 года, летописец получил 879.
2 сентября сентябрьского 6420 года. Интересно, что в том же 911 году, когда Олег заключением договора с Византией получил от греков юридическое признание существования Киевского княжества, на другом конце Европы Карл IV Простоватый вынужден был уступить предводителю викингов Роллону побережье нижней Сены, где было образовано герцогство Нормандия.
См. здесь с. 26.
О походе Олега, в отличие от похода Игоря, не сохранилось византийских известий, что дает повод некоторым исследователям, например Грегуару, отрицать поход и самое бытие Олега. Многие сообщаемые летописцем обстоятельства этого похода, которые можно отнести к Древнейшему своду, носят явные следы болгарского влияния: упоминание почитаемого в Болгарии св. Дмитрия Солунского, рассказ о брашне и вине, имеющий аналогию в болгарской летописи, где он отнесен к Симеону, щит на вратах, которому в болгарских легендах соответствует копье Симеона ( Шахматов . Разыскания… С. 466; Левченко . Очерки… С. 100). Параллельно с этим прослеживается скандинавское влияние в том же эпизоде со щитом и в хитроумном форсировании Золотого Рога ( Стендер-Петерсен . Varägersage. S. 95–99). К местным киевским преданиям можно отнести, пожалуй, сам факт похода да рассказ о парусах.
Полоцк, Ростов и Любечь вставлены составителем ПВЛ по собственному разумению, очевидно, из желания широко раздвинуть территорию Олеговых владений, в тексте договора их нет. Показательно отсутствие Новгорода, что подтверждает взгляд о непричастности Олега к Новгороду и о соединении Киева и Новгорода в более позднее время.
Начальный свод упорно связывает Олега с Ладогой. «Иде Олег къ Новугороду, и оттуда в Ладогу… есть могила его в Ладозе» (Новг. 1-я лет. С. 109). Объяснить это можно скорее не тем, что Олег после похода пришел в Ладогу, – едва ли он вернулся на отдаленный от культурных и богатых областей север, – а тем, что он свой поход начал из Ладоги и там была жива о нем память. А о захоронении в Киеве пишет составитель ПВЛ: «И несоша, и погребоша его на горе, еже глаголеться Щековица; есть же могила его и до сего дни, словеть могыла Ольгова» (ПВЛ. Т. 1. С. 30). Могила, которую знает сам летописец, серьезное подтверждение реальности Олега и захоронения его в Киеве, так же как и могилы Аскольда и Дира подтверждают их реальность. Однако различные легенды о смерти Олега и данные Кембриджского документа не дают оснований с уверенностью считать, что это могила нашего Олега (да и сам летописец говорит предположительно: «словеть могыла Ольгова»). Еще до открытия Кембриджского документа проф. Антонович предположил, а М. С. Грушевский с ним согласился, что это могила какого-то другого Олега, который княжил ранее ( Грушевский . История Украини-Руси. С. 365). В таком случае можно допустить, что это был князь, предшествовавший Аскольду, и приписать ему поход 860 года. Народная память, с подмеченной нами склонностью синтезировать, легко могла слить два Византийских похода двух Олегов в одно и потому именно запомнить его, забыв многое остальное.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу