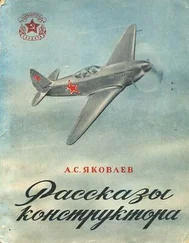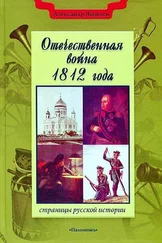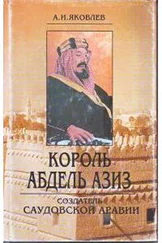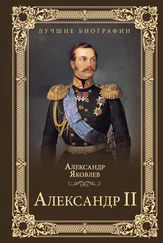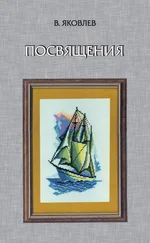Кстати, российские либералы, к которым я и себя отношу, отступили от принципов российского либерализма XIX века, провозгласивших концепцию «социального государства». Тот факт, что учителя, врачи, ученые, пенсионеры оказались в нищенском состоянии, дорого обошелся российской демократии.
Может быть, еще тяжелее сказались на авторитете демократии криминализация государственной власти и социальная безответственность бизнеса.
Россия всегда страдала левизной и ненавистью к чужому богатству. Учитывая это, нынешний социальный раскол очень опасен. Кроме всего прочего, на этом расколе активно спекулируют неофашисты, большевики, разного рода ряженые патриоты. Надо сказать, их работа находит отклик, падает на удобренную почву.
В своей книге я ставлю задачу доказать, что события 1985 года, которые получили название Перестройки, являются по своему содержанию революцией эволюционного, ненасильственного типа. Я называю ее мартовско-апрельской революцией.
Нас, реформаторов, часто обвиняют в том, что мы начали Перестройку без плана, без программы и прочих бумажек. Это никчемные обвинения.
Крупные общественные перемены, связанные со сменой общественного строя, не могут иметь точно обозначенных программ, тем более — расписаний. Очень часто многое складывается из случайностей, неожиданностей, характеров и капризов людей, особенно лидеров, их трусости и смелости, коварства и мягкосердечия, совести и подлости. Трудно, скажем, поверить в историческую закономерность термидорианского переворота во Франции в 1794 году или октябрьского переворота в России в 1917 году. То и другое произошло вопреки «законам истории», на которых строится догматика марксизма.
В конкретных условиях 1985 года было бы политическим мальчишеством, губительным авантюризмом предложить правящей номенклатуре некий «план» коренной реформации общественного строя, ликвидации моновласти, моноидеологии и монособственности.
Кто бы его принял? Кто? Аппарат партии? Армия? КГБ? Да никто. А мы бы оказались где-нибудь на Колыме, в новом ГУЛАГе.
Еще одна проблема, которую я поднимаю в своих работах, это проблема двоевластия. Что я имею в виду?
Обычно принято считать, что КПСС и вожди-небожители обладали абсолютной властью. Это не так. На самом деле Ленин в целях выживания создал и наделил спецслужбы широкими политическими функциями. Недаром он требовал, чтобы каждый коммунист был чекистом, а Дзержинский создавал осведомительную службу не только среди интеллигенции, рабочих, крестьян, в армии, в школах и даже в детдомах, но и в партии.
Я был членом Политбюро перестроечного периода и знаю, как все это работало. Мы сидели в ЦК и надували щеки, изображая, что обладаем полной властью. Конечно, власть была, власть огромная. Но не меньшая власть была у спецслужб. Дачи, в которых жили члены Политбюро, секретари ЦК, принадлежали КГБ, весь обслуживающий персонал, включая охрану, шоферов, уборщиц, поваров, садовников, — все штатные работники КГБ в офицерском звании.
Спецслужбы о работе ЦК знали все, а ЦК о работе спецслужб знали только то, что сообщали сами спецслужбы. За границу выехать можно было только с разрешения КГБ, карьерная лестница каждого номенклатурщика определялась тоже спецслужбами. Добавлю, что организаторами и главными исполнителями заговоров и дворцовых переворотов во времена Хрущева и Горбачева были тоже спецслужбы. И до сих пор эта часть номенклатуры является наиболее сплоченной и организованной силой, а подчас и решающей. Двоевластие продолжается.
Нам, реформаторам перестроечной волны, многое удалось сделать. Свобода слова и творчества, парламентаризм и многопартийность, окончание «холодной войны», изменение религиозной политики, прекращение политических преследований и государственного антисемитизма, реабилитация жертв репрессий, удаление из Конституции шестой статьи — о руководящей роли партии — все это свершилось в удивительно короткий срок, во время революции — Перестройки 1985–1991 годов.
Политические реформы пришлось осуществлять по ходу, причем общественному сознанию еще предстояло переварить по-настоящему ее основные принципы, такие, как свобода слова и творчества, многопартийность, разделение властей, частная собственность, рыночные отношения и другие.
Но все же это были сущностные реформы, определившие постепенный переход к новому общественному строю на советском и постсоветском пространстве. Даже военно-большевистские мятежи в 1991 и 1993 годах не смогли изменить ход событий.
Читать дальше


![Александр Яковлев - Осенняя женщина [Авторский сборник]](/books/28535/aleksandr-yakovlev-osennyaya-zhenchina-avtorskij-sborn-thumb.webp)