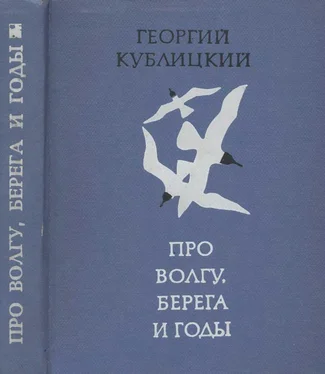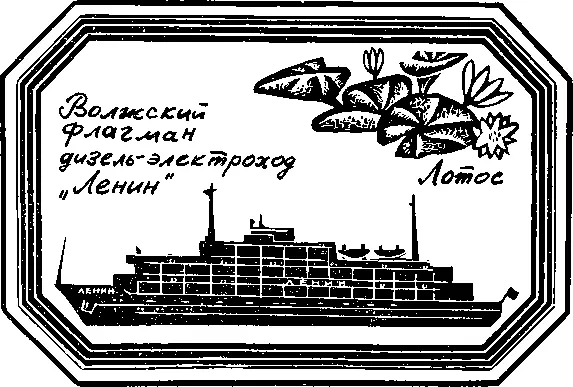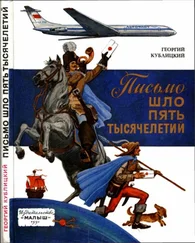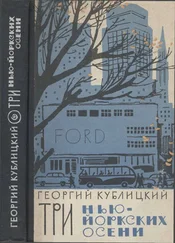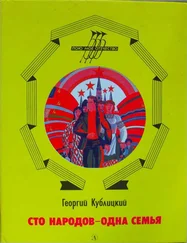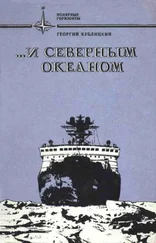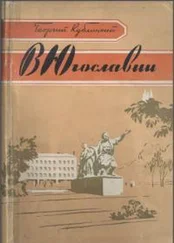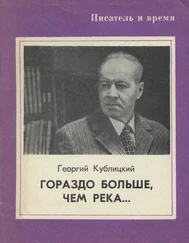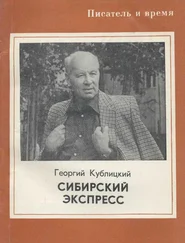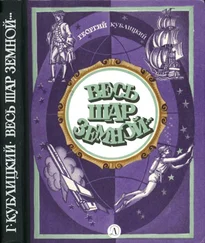Может быть, отчасти правы те, кто говорит, что Штепу кое в чем и заносит; наверное, можно было повременить с новой конторой, с универмагом. Но видно, не хочет Штепа откладывать на завтра благоустройство совхозной жизни, строит сразу добротно, красиво, с размахом.
— Помрем, все народу останется, — говорит он. — Надо какую-то борозду оставить.
И тотчас, видно, из опасения, что поймут его не так, заподозрят в позерстве, приглашает приехать "на помидоры":
— Чем другим хвалиться не буду, но помидоры у нас…
Поездку по каналу мы закончили на Цимлянском море. Паводок 1970 года был обильный, не то что некоторые предыдущие, когда море превратилось в "Цимлянское полусухое".
Ростры входного маяка чернели в вечернем небе. Высвеченная невидимыми прожекторами, вдали сияла арка над донским входом в канал. Большой теплоход показался из-за дальнего мыса. В вечернем воздухе было слышно гудение тракторных моторов и короткий сигнал судна, готового к шлюзованию.
По ту сторону нулевой горизонтали
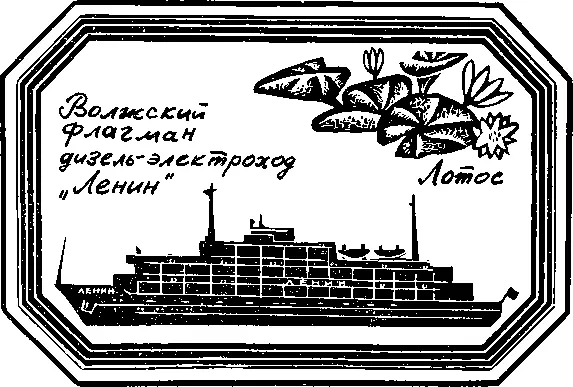
Несхожие миры. — Современник мамонта. — Вододелитель, о котором мало знают. — Астрахань и Каир. — Поистине удивительный, баранец, Корабли-герои. — Дом на косе.
Еще на дальних подходах к Волгограду, возле устья реки Еруслан, Волга ныряет под нулевую горизонталь.
Дальше она течет ниже уровня Мирового океана, спускаясь к лежащему в исполинской глубокой впадине Каспию. До него еще около семисот километров, но левобережные сухие степи и полупустыни на всем этом пути уже ничего не могут дать Волге. Ни одного стоящего притока! И правобережье не расщедрилось. Волга платит здесь солнцу более щедрую дань, чем собирает сама, она не так полноводна, как сразу после встречи с Камой.
За Волгоградом начинается Волго-Ахтубинская пойма, одна из величайших речных долин планеты. Ахтуба, волжский рукав, почти полтысячи километров течет в стороне от основного русла, но не раздельно от него: протоки тут и там пересекают пойму. В паводок общая долина Волги и Ахтубы, полосой в десять, двадцать, даже сорок километров вклинивавшаяся в сухие степи и полупустыни, принимает колоссальные массы вод и удерживает их до середины лета.
Говорят, теперь в пойме "не то": вот раньше были разливы! Я видел их прежде, увидел вновь весной 1970 года. Нет, Волга еще может себя показать!
В полноводный год здесь безбрежье, безбрежье особенное, живое, меняющееся, в отличие от волжских морей, покойно и устойчиво лежащих в своих границах. Здесь вода — временная гостья лугов и рощ.
Пойма — это ил, принесенный рекой, рисовые плантации, сказочное плодородие, помидоры с кулак, капуста с голову при тяжелом тугом кочане, валы, защищающие от чрезмерных разливов, гул насосных станций, радуга у дождевалок, которым со середины лета поручена защита полей от суховеев.
Пристань Каменный Яр. Но где же камень? Дебаркадер у песчаного отмелого берега, опять-таки с полузатопленными деревьями, протоками, заболоченными лугами. Две цапли, синхронно взмахивая крыльями, тянут на лягушиное болото.
Не успел теплоход пристать, как из кустов по тропкам повалили босоногие мальчишки с ведрами, полными крупных раков. А следом за ними — солидные продавцы с легчайшими платками и шалями, говорят, не многим уступающими знаменитым оренбургским.
Раки — товар поймы, ее теплых протоков. Пуховые платки — из степи, из полупустыни, где пастбища тонкорунных овец и коз с длинным пухом. Здесь эти несхожие миры совсем рядом.
Чуждые спокойному, ленивому раздолью, буйной зелени, тянутся обрывы коренного берега. Это граница. Каменный Яр поставил в пойме пристань, а сам поднялся наверх, в степь.
Оттуда, из степного мира, с разбойничьим свистом налетает вдруг ветер, упругий и горячий. Мгновенно пересыхает во рту, першит в горле. Береговой обрыв загорается без пламени, желтая пыль, едкая, как дым, клубится над его кромкой.
Два несхожих мира. На карте пойма — густая зеленая краска, штриховка, означающая избыточное поверхностное увлажнение. И без всякого перехода, сразу, впритык — рассыпанные по берегу мельчайшие точки песков, ничтожные цифры годовых осадков.
Но всегда ли были так контрастны эти миры приволжских низовий?
Археологи долго искали в сухих степях следы таинственной Итили, столицы хозар, и неожиданно обнаружили их в пойме. Хотя один из хозарских царей X века описывал свою страну как тучную, изобиловавшую орошаемыми лугами, казалось маловероятным, чтобы хозары выбрали для столицы затапливаемую землю.
Читать дальше