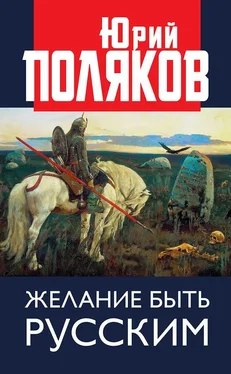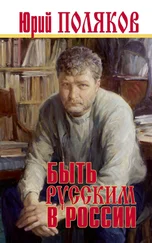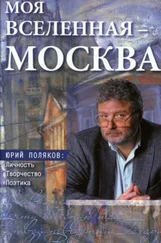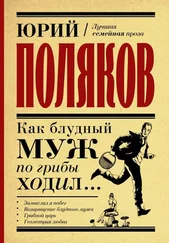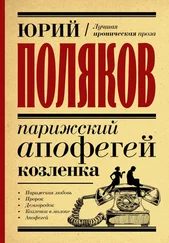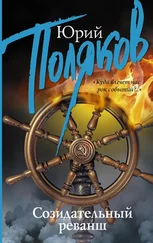«Умер Задорнов…» – это для меня какой-то мрачный оксюморон, вроде «темного света» или «горького меда». Михаил Николаевич был не только остроумнейшим писателем и глубоким сатириком, он был законодателем русской смеховой культуры рубежа веков. Десятилетия страна смеялась «по Задорнову». Он собирал стадионы и миллионы зрителей у телевизоров. Его смех помогал одуматься, а не озлобиться, его улыбчивый голос и мудро-лукавое лицо удерживали у телеэкранов даже тех, кто выключал аппарат Зворыкина при первых звуках любых эфирных юморин, настроенных на гогот без причины и над причинными местами. Он показал и доказал: горький смех над несовершенствами – своими ли, своего ли народа и глумление над чуждой средой обитания – вещи эстетически и онтологически разные. В самой фамилии Задорнова был зашифрован смысл того, чему он посвятил жизнь: острым словом бодрить, раззадоривать народ, явно утомленный и обескураженный мрачными гешефтами своей истории, в том числе новейшей.
Обращение Михаила Николаевича к древнейшей нашей истории, к тайнам русского корнесловия свидетельствует о том, что острый взгляд писателя-сатирика имел под собой глубокое основание, уходящее в глубины родного предания. Страстно, но всегда с опорой на современные знания и факты, Задорнов доказывал, вслед за Ломоносовым и Гумилевым, что Рюрик никакой не норманн, а балтославянский князь. Писатель продолжал ту линию отечественной словесности, которую Пушкин гениально явил в стихотворении «Клеветникам России». Собственно, по большому счету и сатира Задорнова своим острием направлена против клеветников России. Прочитав или услышав Задорнова, хотелось стать лучше умнее, поднять и «украсно украсить» нашу Россию, а не бежать из нее в неведомые общечеловеческие палестины.
Мы были с Михаилом Николаевичем близки, если не по-человечески, то по-писательски. Мне, да и всем нам будет без него грустно и одиноко. Но если у насельников горнего мира есть чувство юмора, они уже, наверное, улыбаются над его мудрыми остротами, а апостол Петр, сотрясаясь от смеха, не может сразу попасть ключом (прости, Господи!) в замок райских врат. Попадет и откроет… А мы будем читать Задорнова, слушать и помнить.
Владимир Солоухин был вызывающе русским писателем. Природа наделила его былинной внешностью – светловолосый, голубоглазый, статный, он говорил, отчетливо окая, да и в Москве жил, словно проездом в родное Алепино, хотя и заграницей не брезговал. Начав как поэт «кольцовской» школы, Солоухин прославился книгой «Владимирские проселки», где с восхищеньем писал о красоте и богатстве родной земли, и с болью – о ее бедах и нестроениях. Баловень советской власти, он почти не скрывал своей неприязни к социалистической яви, с нежной тоской рисуя обильное, уютное, благостное дореволюционное прошлое. На пальце писатель носил перстень, сработанный из царской золотой монеты с профилем последнего императора. Его журили, но с каким-то уважительным недоумением. Жанр, в котором творил писатель, мы назвали бы сегодня «нон-фикшн», а по-русски – очерк. К этой форме тогда прибегали многие, не владевшие сюжетным вымыслом, но Солоухин предложил читателям сверх-очерк, подняв его на уровень высокой интеллектуальной прозы. Он видел непознанное в привычном, метафизику – в бытовой детали. И находил. Он блестяще владел незамутненным русским словом, формируя ту «золотую норму языка», которую оставляет векам настоящая литература. Он открывал русским их подлинную историю и культуру, словно снимая слои неумелой интернационалистической реставрации. «Черные доски» и «Письма из Русского музея» стали потрясением для моего поколения, после этих книг мы стали ощущать себя не только советскими, но и русскими людьми. Именно поэтому после 1991 года Солоухина, во многом сформировавшего «антисоветский дискурс» (взять хотя бы его потаенную «Чашу» или «Соленое озеро») убрали в тень. Коммунистов свергали не для того, чтобы Нечерноземье стало Русью. Он ушел из жизни двадцать лет назад в самый разгар гидропонного постмодерна, когда, казалось, райтеры, пишущие на русском, как на эсперанто, навсегда засорили ниву отечественной словесности. Автора «Капли росы» старательно забывали, выбрасывали из школьных программ, и никаких «тотальных» диктантов по произведениям этого эталонного стилиста, разумеется, не писали. Но Солоухин вернется, он возвращается, он уже вернулся… Да и не уходил он никуда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу