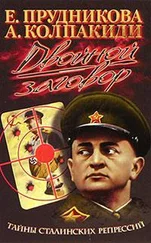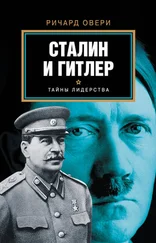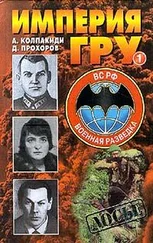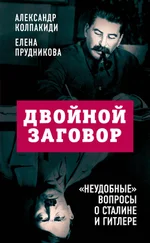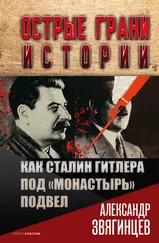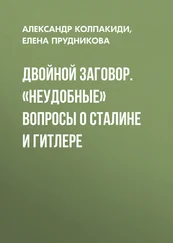Что увидел Сталин в Сибири?
Первый этап битвы за хлеб, кроме всего прочего, показал, что правительство не совсем верно оценивало положение на селе. Будем говорить про ту же Сибирь — регион, считавшийся, в отличие от центральных областей России, кулацким. Оказалось, что кулаков-то, как таковых, там не так уж и много. Согласно решению Политбюро, судебные санкции следовало применять к крупным держателям зерна, имевшим более 30 тонн (1,87 тысячи пудов). Однако по приговору судов конфисковывалось в среднем 886 пудов на хозяйство, т. е. держатели хлеба оказались куда менее мощными производителями, чем думалось вначале. Дело, как оказалось, было не только в кулацкой стачке. Причины хлебных трудностей лежали гораздо глубже.
Столкнувшись не со статистическими отчетами, а с реальной жизнью, Сталин уже в ходе сибирской поездки начал делать выводы, полностью противоречившие всему, что говорилось до сих пор. Уже зимой 1928 года он впервые назвал в числе причин кризиса не только кулацкий саботаж, но и слабое развитие колхозов и совхозов. Как в высшей степени человек дела, он моментально повернул руль, и уже 1 марта 1928 года в циркулярном письме «О весенней посевной кампании» провозглашается, пусть еще и не в порядке директивы, курс на немедленную коллективизацию.
18 мая 1928 года в докладе «На хлебном фронте» Сталин излагает причины столь крутого поворота. При этом он ссылается на советского экономиста, члена коллегии ЦСУ В. С. Немчинова. Выкладки Немчинова приводит современный русский историк Вадим Кожинов в своей книге «Россия. Век XX. 1901―1939».
«В „Записке“ В. С. Немчинова… было показано, что до 1917 года более 70 процентов товарного хлеба давали крупные хозяйства, использующие массу наемных работников (в 1913 году — 4,5 млн. человек). После революции обширные земли этих хозяйств были поделены; количество крестьян-единоличников выросло на 8―9 млн. К 1928 году крестьяне (в целом) производили поэтому на 40 процентов больше хлеба, чем дореволюционное крестьянство, но, как и до 1917 года, почти целиком потребляли его сами, на продажу шло всего только (как показал В. С. Немчинов) 11,2 процента крестьянского хлеба!
…Уничтожение крупных хозяйств, которого, между прочим, прямо-таки жаждали миллионы крестьян (начавших это уничтожение еще в 1905 году и без особого „руководства“ большевиков довершивших его в 1917―1918 годах) с абсолютной неизбежностью привело к тому, что количества товарного хлеба в 1927 году было в два раза (!) меньше, чем в 1913-м, хотя валовой сбор зерна был примерно таким же. Поэтому и пришлось в 1928 году ввести в городах карточную систему…»
Хорошо, конечно, когда все происходит естественным путем, через кооперацию и экономическое регулирование, но события 1927―1928 годов показали, что у государства просто не было времени на постепенное развитие событий. Во-первых, село должно быть управляемым. Государство не может существовать под постоянной угрозой шантажа держателей хлеба. Во-вторых, начатая индустриализация требовала колоссальных людских ресурсов, которые можно было взять только из деревни. А для этого маломощное низкоурожайное мелкое и среднее хозяйства надо было заменить крупным высокопродуктивным сельскохозяйственным производством и высвободившиеся людские ресурсы направить в промышленность. И в-третьих, это вообще бред — страна, 80 % населения которой тратит силы на то, что на полудохлых лошаденках устаревшими плугами пашет свои тощие десятины. Опыт передовых стран уже к тому времени показывал, что при нормальном земледелии страну могли прокормить значительно меньшее количество людей. Индустриализация тоже ждать не могла, ибо мечты Столыпина — двадцать пять лет без войны — у нас не было ни в какой перспективе.
Высокопродуктивное же производство на селе было возможно только в двух вариантах — либо за счет роста и усиления кулака, либо за счет организации колхозов и совхозов. Окунувшись из Кремля в гущу сельской жизни, власти с некоторым удивлением обнаружили, что процесс, пущенный на самотек, недвусмысленно вел к первому варианту, а отнюдь не ко второму, как уверяли теоретики. Это означало постоянную угрозу хлебных забастовок, мощное лобби сельхозпроизводителей, шантажирующее правительство, и неизбежное развитие страны как сырьевого и сельскохозяйственного придатка более развитых стран — тот сценарий, который пытаются реализовать в России сейчас.
…Итак, первый бой окончился победой правительства. Хлеб был сдан. Летом 1928 года Молотов в выступлении говорил об отказе от чрезвычайных мер. Однако еще на апрельском пленуме ЦК Сталин оценил «заготовительный кризис» как первое серьезное выступление капиталистических элементов деревни против Советской власти и пообещал, что, если «чрезвычайные обстоятельства наступят и капиталистические элементы начнут опять „финтить“, 107-я статья опять появится на сцене».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу