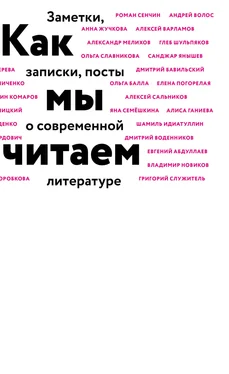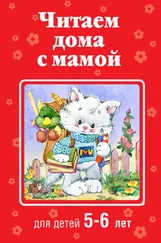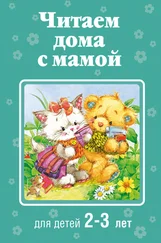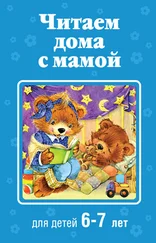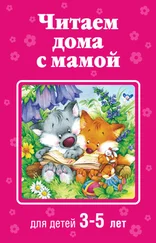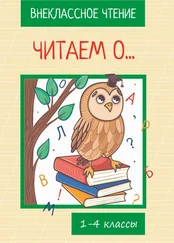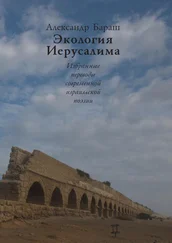Впрочем, надо сказать, что тенденция не закон, и многие поэты размышляют о смысле существования человека и человечества вообще, без привязки к конкретному времени или месту. Им интересны, как Александру Кабанову, «волны и новые племена», не меньше. Но и в этом случае в центре внимания оказывается человеческая судьба на фоне «большой истории». То есть, опять же, эпос.
Наверное, сам факт обнаружения его в премиальном листе уже оправдывает появление премии. И вообще, эта тяга к осмыслению времени вызывает умеренный оптимизм и заставляет надеяться на то, что вслед за постановкой вопросов мы сможем получить от поэзии и некие ответы. Ибо познавательная функция поэзии, хоть и не считается основной, на самом деле определяет все остальные.
я постоянно жду таких стихов которые можно разделить
с другими
и авторской позиции, которой можно поделиться,
как предлагают еду вечернему внезапному гостю
вот возьми:
что у тебя то и у меня
(Илья Кукулин)
Но оправдаются ли наши ожидания, покажут уже другие сезоны премии.
Игорь Савельев
О назначении Шаргунова главным редактором «Юности»
Сначала было «жилисто и тряско», и оно чуть было не испортило все на корню. Всего лишь потому, что мы слегка отвыкли от барочной творческой манеры Сергея Шаргунова. В начале нулевых эта манера отваживала одних, заставляла усмехаться других, а третьих – искать черты «реабилитации пафоса» в новом литературном поколении. История «нового назначения», рассказанная совершенно по-шаргуновски – слегка безумно, мило-самовлюбленно и взахлеб, – чуть не потопила все смыслы.
Сергей Шаргунов возглавил литературный журнал «Юность». Уже само то, как это произошло, достойно изучения (на фоне того, что после четвертьвековых флегматичных разговоров о скорой смерти толстых журналов этот механизм вдруг начал и взаправду сыпаться: «Октябрь», «Арион», вы куда?). Но главное, разумеется, то, что Сергей собрался с этим журналом делать, потому что его планы – если сбудутся и если я правильно считал их в уклончивости общих слов о «русском „Нью-Йоркере“» [199] Е. Коробкова, С. Шаргунов. Сделаем из журнала «Юность» русский «Нью-Йоркер». Писатель, журналист и депутат Сергей Шаргунов – о первых реформах на посту главного редактора легендарного журнала // Комсомольская правда. 2019. 6 мая.
, – обещают большую встряску упомянутому механизму. Однако на первый план, потеснив живого Шаргунова, вдруг вышел мертвый Катаев, и это история еще и о том, как любая чудинка способна подмять под себя смыслы в эпоху диктата развлекательного чтения.
Шаргунов рассказал в интервью, что «приглашению на царство» предшествовал сон, когда под потолком редакции, давно не знающей ремонта (так можно понять детальное описание серых советских плафонов), к лирическому герою подплыл Катаев-призрак и «жилисто и тряско» жал ему руку. (Вряд ли здесь надо пояснять, что Валентин Катаев был создателем и первым редактором журнала, а его биографию, вышедшую в ЖЗЛ в 2016 году, написал Сергей Шаргунов.) Чему удивляться, что публикация об этой «кадровой перестановке» в самой массовой российской газете называлась «Жилисто и тряско: умерший редактор назначил себе преемника через вещий сон» [200] С. Селедкин. Жилисто и тряско: умерший редактор назначил себе преемника через вещий сон. Известный писатель Сергей Шаргунов стал главредом литературного журнала «Юность» // Комсомольская правда. 2019. 6 мая.
. Причем дальше эта дурная инерция раскручивалась, и в новых интервью, посвященных будущему «Юности», Сергея неизменно спрашивали, главным образом, про сон, и он неизменно на это велся.
На второй план ушли действительно важные вопросы: как произошло приглашение «варяга» (Сергей не был членом редколлегии и автором журнала) и что будет дальше? За первым вопросом в тусовке последовало ерничанье, а не «пригласят» ли, например, Захара Прилепина в «Наш современник» – как пригласили, кстати, в МХАТ Горького (в театральной прессе операцию с оттеснением Дорониной называли даже рейдерским захватом). Но МХАТ – учреждение государственное. Здесь начинается самое интересное, потому что «Юность» – нет.
Как мы помним, государственных литжурналов в России не осталось – вынесем за скобки региональные. Если те же театры были «унаследованы» российским Минкультом от советского, то условное «Министерство литературы СССР» в 1990 году растворилось в воздухе, а учредителями «толстяков» стали трудовые коллективы. Но непростые отношения с государством на этом не прекратились, выливаясь в самые различные формы – от споров вокруг зданий (причем каждый раз, когда власти пытались выселить очередной журнал из центра Москвы, в петициях неизменно возникала тема, что эти журналы как национальное достояние – дело де-факто государственное) – до конфликтов с субсидированием подписки библиотек. То, как искрила эта тема столкновения «частного» и «государственного», можно увидеть на примерах журналов, вырвавшихся из статуса региональных: раздвоение «Волги», переходы «Урала» из одной формы собственности в другую и т. д.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу