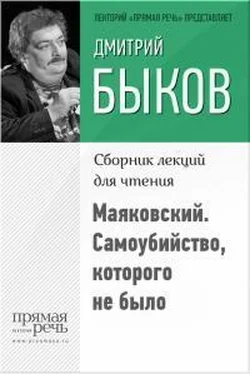Настоящее, самое пронизительное, самое мощное – оно дальше:
Может,
может быть,
когда-нибудь,
дорожкой зоологических аллей
и она –
она зверей любила –
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая –
ее, наверно, воскресят.
Это ненависть к самому понятию красоты, красивости, к тому, что только красивый и может понадобится. «Недостаточно поэт красив». И в этом, кстати говоря, значительная доля отвращения и к собственной превосходной внешности. Маяковский, этот аполлон революции, как называли его, Маяковский, которого Репин хотел писать читающим стихи красавцем, явился к Репину демонстративно наголо обритый. И Репин в ужасе вынужден был писать эту голую голову, слава богу, затерялся этот набросок, хотя хотел-то он писать на самом деле полет черных роскошных волос во время чтения «Облака в штанах».
«Она красивая – ее, наверное, воскресят». Здесь страшное неверие в то, что потомки будут любить за что-нибудь настоящее. Они тоже, как нынешние, будут любить за красоту, за соответствие своему критерию.
И вот этот ужас, которым переполнено «Про это», ужас от засасывающего болота традиций, к сожалению, так и остается главной нотой завещания Маяковского. Потому что никакой надежды на то, что будущее пойдет по сценарию этой эволюции, у него нет.
Мы привыкли к мысли, что Маяковский – трагический поэт. Мы привыкли, что Маяковский – поэт отчужденности, поэт «адища города», поэт вот этих урбанистических кошмаров 1913-15 годов. Но ведь Маяковский, если вдуматься, одна из самых радостных, веселых и безоблачных фигур русской литературы, но только когда? – в то самое время, которое для большинства современников становится самым чудовищным – в 1918-19 годах.
Нет ничего более безоблачного, восторженного и триумфального, чем стихи Маяковского примерно с 1918-го по 1920-й. Когда Пастернак пишет чудовищный «Разрыв», когда почти не пишет Асеев, только два поэта пишут вещи радостные. Вот как ни странно: Цветаева на своем московском чердаке в Борисоглебском пишет прелестнейший, лучший, любимый романтический цикл, потому что поэт попал в свою романтическую среду:
Что ж, – мы проживем и без хлеба!
Недолго ведь с крыши – на небо.
Вот этот упоительный борисоглебский цикл, стихи к Але, пьесы для Сонечки, радостнейшие, смешные, романтические три пьесы про Казанову – вот эта веселая, голодная, нищая Цветаева, у которой муж без вести пропал, у которой младший ребенок умирает и умрет скоро, у которой старший ребенок вечно некормлен, непонятно, что будет, – вот она переживает самое большое, самое сумасшедшее, самое эгоистическое счастье. Поэт попал в свою среду, во французскую революцию, в романтизм.
И ту же безумную эйфорию, внезапную радость чувствует Маяковский. Я не говорю уже о том, что в это время написаны просто самые веселые его стихи – «Гейнеобразное», «Тучкины штучки», «Стихи о разнице вкусов»:
Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
"Какая
гигантская
лошадь-ублюдок".
Верблюд же
вскричал:
"Да лошадь разве ты?!
Ты
просто-напросто –
верблюд недоразвитый".
И знал лишь
бог седобородый,
что это –
животные
разной породы.
Ну, чего? Праздник! Всё же отлично! Я уж не говорю о том, какой эйфорией на самом деле веет от «Мистерии-буфф». Вот если из всех сочинений Маяковского взять самое веселое, самое безоблачно смешное – это, конечно, «Мистерия-буфф», которую сам он ставил и сам же в ней играл, потому что половина актеров не явилась, и сам же приколачивал гвоздями декорации.
А какой финал в «Мистерии» – изумительный совершенно, действительно мистериальный, действительно ослепительно праздничный – как человек верит в то, что настала новая жизнь. Я даже зачитаю.
Все вещи
Прости, рабочий!
Рабочий, прости!
Рубля рабы,
рабы рабовладельца
были.
Заставил цепными делаться!
Берегла прилавки, сторублева и зла,
в окна скалила зубья зарев.
Купцовы щупальцы лезли из лавок.
Билось злобой сердце базаров!
Революция,
прачка святая,
с мылом
всю грязь лица земного смыла.
Для вас,
пока блуждали в высях,
обмытый мир
расцвел и высох!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу