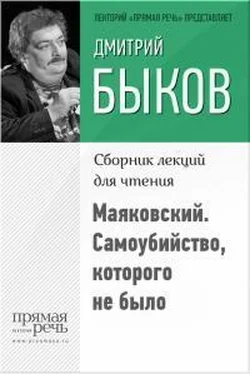Я думаю, что главный текст Маяковского – «Про это». Поэма, в которой очень четко обозначено и прошлое этого типа и его, к сожалению, беспросветное будущее. Дело в том, что вся жизнь Маяковского, начиная примерно с 1923 года – это мучительные попытки человека вернуться в прежнее дочеловеческое состояние.
Великий скачок не состоялся. Мир плюхнулся обратно, скатился в НЭП. И Маяковский, который еще в 1922–1923 годах с презрением называл Унтер ден Линден Нэпским проспектом, вдруг увидел этот Нэпский проспект вокруг себя, более того, увидел, что он торжествует. Новая жизнь не состоялась. Прежняя жизнь брала его за горло. Футуристы оказались никому не нужны. Откат в культуре случился гораздо быстрее, чем в политике. И Булгакова, и булгаковщину, и МХАТ он воспринимал именно как этот реванш.
Кстати говоря, в доказательство идеи о том, что Маяковский живет только огромным этим мозгом, этим эстетическим чувством, а вовсе не какими-то личными обстоятельствами, можно привести его замечательную фразу, сказанную Веронике Полонской: «Я не покончу с собой, не доставлю этого удовольствия Художественному театру». Казалось бы, причем здесь Художественный театр? Речь идет о самоубийстве, о вычитании себя из мира – нет! Художественный театр остается главным врагом. А за ним, собственно говоря, всё, что он персонифицирует. Прежде всего, традиция.
Маяковский, который вечно этой традиции противопоставлен, который ее ненавидит до гроба, стал первой ее наиболее очевидной жертвой. А ведь множество людей, и в том числе умнейший Пастернак, восторженно, радостно приветствуют возвращение к ней. Пастернак пишет о том, что предшествующего пробел, разрыв ликвидирован. Как хорошо, что Сталин и сталинизм «не взвился небесным телом»! Как хорошо, что вместо эксцесса наконец восстановлена норма! Тогда еще не всем было понятно, что эта норма на самом деле страшнее любой революции.
В 1936 году, когда Пастернак начинает принимать этот новый мир, когда появляется бухаринская конституция, когда появляются стихи Пастернака «Художник» и так далее, в 1936 году еще не было понятно, что эта контрреволюция страшнее любой революции и результаты ее будут гораздо кровавее. Нет, всем казалось, что восстановилась прекрасная последовательность. Тогда казалось, что Маяковский болен. Может быть, лет через двести будет казаться, что он был, несмотря на всю свою вечную болезнь, вечную болезненность, неврозы и прочее, единственным здоровым человеком. Потому что он-то чувствовал, куда идет эволюция, и слишком ее опередил.
Много говорят и о том, что Маяковский в последние пять-семь лет жизни особенно сильно страдает от игромании. Действительно, есть за ним такая страшная беда: он все время играет во что-то, загадывает. Играет на трамвайные билетики, спорит с друзьями, сколько шагов до того столба, постоянно пытается угадать, сколько строчек в книге на странице, я уж не говорю о картах, которые с 1922 года стали одним из камней преткновения между ним и Бриками.
Между тем причина очень проста: игромания – это попытка доказать самому себе, что ты имеешь право на существование. Всё время загадывать: а есть я или нет? Всё время находить в природе, в окружающем мире какую-то поддерживающую тебя цифру, что у Пелевина в «Числах» описано замечательно, какой-то знак, намек – в общем, какой-то костыль со стороны мироздания, какую-то надежду, что, может быть, ты здесь не зря, что ты не случаен.
И вот эта игромания как раз подчеркивает ощущение своей страшной неуместности в мире, которое нарастает, начиная с «Нескольких слов обо мне самом» и достигая невероятной мощи в «Про это». «Про это» – поэма сложная, симфоническая, мы не будем сейчас разбирать ее всю, но давайте вспомним ее третью часть – пронзительный и мучительный финал, который, собственно, и заключает в себе завещание тогда еще тридцатилетнего Маяковского.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно –
всеми порами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
всё.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу