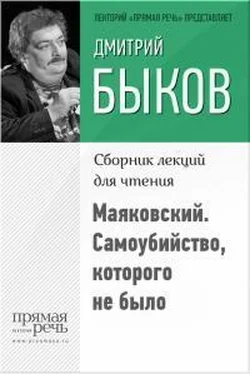1 ...7 8 9 11 12 13 ...18
И когда
это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, –
я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и – знаю – не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз
я буду
– один! –
в непролазном долгу.
Долг наш –
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипенье.
Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на горе
проценты
и пени.
Я
в долгу
перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии –
перед всем,
про что
не успел написать.
И не успеет уже, и сознает это прекрасно. Конечно, это очень страшные стихи. Именно поэтому они венчаются таким странным, искусственным жизнерадостным финалом:
А если
вам кажется,
что всего делов –
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стило,
и можете
писать
сами!
Это уже нечто компромиссное. На самом деле мощное, бронзовое, трагическое звучание этих предсмертных стихов – вот настоящее поэтическое завещание. Потому что «Во весь голос» – это уже газетчина. Это уже вечная трагедия поэта, который уверен: «Ну, ничего, мое-то ремесло со мной, мое-то перо не заржавело! Вот захочу написать лирику и напишу такую лирику, что все обалдеют!» Берешься за нее, а уже одно жестяное громыхание, уже голосовой аппарат утрачен безвозвратно. Вот это была настоящая трагедия Маяковского. Потому что в поэме «Во весь голос» уже нет ни одного живого звука, как это ни ужасно, это всё уже медь, гранит, жесть и, более того, это попытка писать ямбом, о которой он говорит: «Асейчиков, если ЦК скажет писать ямбом, вы что будете делать?» – «Я брошу писать», – говорит Асеев. – «А я буду писать ямбом!» – отвечает Маяковский. Он чувствует, что время этого требует, и начинается этот ямб, в котором его поэтическая мысль чувствует себя как нога дикаря в сапоге. Она не привыкла тесно ставить пальцы, поэтому получаются какие-то идиотские стихи-уродцы, какие-то странные, недоговоренные мысли, не говоря уже о совершенно очевидных ошибках, которых он просто не видит.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Но, помилуй Бог, орудия, прижатые к жерлу жерло, будут стрелять друг в друга! Он этого уже не слышит. И самое страшное, что заглавия его поэм действительно стреляют друг в друга. «Облако в штанах», этот крик сплошной, стреляет в «Хорошо!». «Владимир Ильич Ленин» стреляет в «Человека», потому что или «Человек», или «Владимир Ильич Ленин» – это совершенно очевидно. И вот эта стрельба к жерлу жерло, эта самоубийственная стратегия, она в этой поэме очень видна. Я уже не говорю о каких-то странных речевых оборотах, ему совершенно не свойственных. «Поэт вылизывал чахоткины плевки», естественно, что в дольнике можно сказать «слизывал», – это будет нормально, а «вылизывать», то есть доводить чахоткины плевки до лоска, до хорошего вида, ни один поэт не станет.
Это то самое разлаживание, дребезжание, порча стихового аппарата, что и губит Маяковского в конце концов. Вот здесь самоубийство, вот здесь настоящее вычитание себя из мира. Настоящее же завещание Маяковского – это «Разговор с фининспектором», в котором впервые сказано открытым текстом о своем мучительном несоответствии миру. И новому миру, уже построенному. Второе такое заявление – это «Баня». Очень интересно, что «Баню» и «Клопа» разделяют всего два года – 1927 и 1929. Обе вещи – о том, как современный человек попадает в будущее. И в «Клопе» мы видим светлое будущее, неуместность в нем Присыпкина, 927 год – это Присыпкин, которого извергает настоящее, как бы выблевывает его на пятьдесят лет вперед, и он попадает в стерильный мир через пятьдесят лет и там все смотрят на него как на уродца. А 1929 год, «Баня», – это уже совсем другая история. Это настоящее, которое выбрасывает из себя Велосипедкина, Двойкина, Тройкина, это мир, в котором нет больше места изобретателю, поэту, мыслителю, и они сбегают в панике. Сбегают, между прочим, в 2030 год.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу