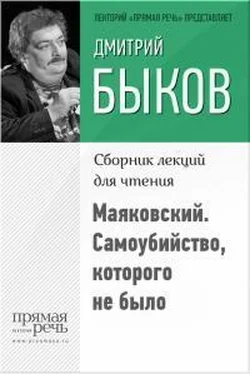1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Сейчас я приписал бы к «Бане» 7-е действие. В «Бане» их шесть, Маяковский хотел, чтобы его драма отличалась от прочих. Он спрашивал Катаева, сколько может быть максимум действий, Катаев честно отвечал: пять. Ну, так у меня будет шесть, – решил Маяковский.
Так вот пора приписать седьмое. Седьмое действие – это то, где Велосипедкин, Двойкин, Тройкин и Фоскин в панике возвращаются из 2030 года и кидаются радостно обнимать Победоносикова, говоря: «Нет, уж лучше вы!» Вот это был бы, наверное, спасительный вариант.
Но ясно одно: что герои 1930 года в своем времени больше не живут. Они просят, чтобы Фосфорическая женщина взяла их в какое-то прекрасное далеко. Но иногда, честно говоря, я думаю, что ведь 2030-й тоже еще довольно далеко и нет никакой гарантии, что к этому времени мы не вернемся на путь, с которого свернули. Россия, так она устроена, она может быть либо страной сверхлюдей, либо страной недолюдей.
Страной недолюдей она уже побыла, хватит. И после страшного своего опыта, после изуродовавших идею 30-х, после диких 50-х, после сонных 70-х ей, может быть, пора вернуться на этот путь сверхчеловечности и попробовать как-нибудь зайти на него с другой стороны. Не говорить вечно о том, что «новый человек» – это Шариков, не считать Маяковского несчастным уродом, не поминать его страшные семейные обстоятельства, а подумать о том, что только благодаря этому великому эксперименту она и дала все великое, что в ней было.
Россия может, к сожалению, либо лежать в болоте, либо лететь в космос – третьего ей не дано, не та это немного страна, чтобы в ней была нормальная жизнь. Здесь для того, чтобы спустить ноги с кровати в зимний холод, и то уже нужен сверхчеловеческий стимул. Никакими деньгами эта проблема, к сожалению, не решается. Решается она только верой в свою исключительность.
И вот на этом-то пути, на пути отвращения к норме, на пути обожествления великого, на пути сверхчеловечества Маяковский может быть нам, как ни странно, добрым подспорьем. Человек, для которого жизнь – пытка, может из любой пытки сделать праздник. И, может быть, поэтому сегодня полузабытый, оболганный, низведенный до пошлости и сплетен, он может стать для нас тем самым необходимым витамином роста. Потому что, в конце концов, как ни относись мы к его поэтике, к его опыту, к его исчезновению, к его самоубийству, как ни относись мы к трагической атмосфере его лирики, мы должны понимать, что он-то всем своим опытом доказывает возможность будущего, а будущее всегда кроваво и мучительно, будущее всегда непросто, будущее всегда пугает обывателя.
Но если мы хотим, чтобы мир продолжался, нам надо выбрать его.
В заключение вот этих очень предварительных соображений, потому что, я думаю, при ответах на вопросы мы проговорим больше и важней, я вспомнил бы один очень тоже не корпоративный и очень, к сожалению, нетоварищеский шаг. Я вспомнил бы некролог Ходасевича, которым Ходасевич Маяковского проводил. Наверное, я буду не прав, сказав, что самое точное определение Ходасевича дал в свое время Максим Горький – «человек, всю жизнь проходивший с несессером, делая вид, что это чемодан». Это очень похоже на правду. Я думаю, что предположение, будто Ходасевич был прототипом горьковского Самгина, нуждается еще в обоснованиях. Давняя моя идея, может, я ее сумею доказать, может, нет. Но мне кажется, что это именно он – человек, умудряющийся всегда сохранять лицо. Я думаю, что Ходасевич, при всех своих чертах замечательного поэта, страдает от той же игромании, что и Маяковский, от того же сознания своей неуместности и, кстати, по воспоминаниям Пастернака, во время всех своих встреч с Маяковским они немедленно принимались играть в орлянку вместо того, чтобы дискутировать о поэзии.
Надо сказать, что Ходасевич в этом своем мемуаре-некрологе в значительной степени погрешил против собственной, такой непогрешимой литературной репутации. Мы привыкли, что Ходасевич всегда умнее всех своих современников, ведь когда мы перечитываем «Некрополь», наше первое ощущение: «Какие они все были дураки и дети!» И этот Брюсов, и эта Рената, и этот Белый, и все эти Алексеи Толстые, и даже Гершензон – все они в сравнении с автором глуповаты.
А про Маяковского он вообще не нашел других слов, кроме как сказать: «Пятнадцать лет – лошадиный век». Но вот я боюсь, что именно эта злоба Ходасевича против Маяковского – это очень точное доказательство. Ходасевич ведь прекрасно понимает, кто он и кто Маяковский, он понимает, что человек, написавший «Хорошее отношение к лошадям» или то же «Про это», или даже «Разговор с товарищем Лениным», просто по энергии стиха, просто по невероятной чистоте и оригинальности своих приемов, безусловно, себя в литературу уже вписал, а что там будет с автором «Европейской ночи» – это на тот момент еще вопрос. Хотя, безусловно, Ходасевич – поэт первого ряда. И сейчас не нужно меня упрекать в недооценке его великого дара, хотя для меня лично это самая проблематичная фигура русского Серебряного века, поэт чрезвычайно вторичный и, чего уж там говорить, слабый на фоне великих. Но как бы мы к нему ни относились, все-таки надо понимать и то, что сама злоба, которую вызывает Маяковский, – это свидетельство величия. Плохую вещь так сильно ненавидеть не будут.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу