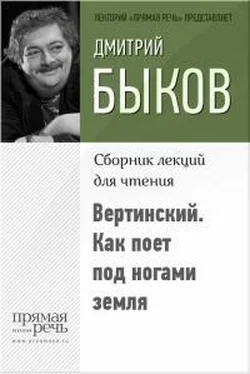Я очень люблю приводить как хрестоматийный пример, как в 34-м году Бунин прощается с Ариадной Эфрон перед ее отъездом за границу: «Дура, девчонка! Куда ты поедешь? Они тебя арестуют в первый же день! Они хамы, они упразднили орфографию. Там жить невозможно. Поганый Сталин, новый русский царь. Все извращено, мерзкая страна! Серость, гадость! Господи Боже мой! Если бы мне, как тебе, было 22 года, я пошел бы туда пешком, стер бы ноги до колен, дополз бы до Москвы!». В этом весь Бунин, понимаете?
Конечно, еще точнее, может быть, еще короче, это выразил Вертинский в знаменитой песне, не сохранившейся в его исполнении, но тем не менее широко певшейся в эмиграции, насчет того, что «и пора понять беззлобно, что свою, пусть злую мать, все же как-то неудобно вечно в обществе ругать». А дальше, надо сказать, следует четверостишие, которое очень нехорошо по своей сути, но на всю эту песню оно лучшее по стиху:
А она цветет и зреет,
Возрожденная в Огне,
И простит, и пожалеет
И о вас, и обо мне.
Как она простила и пожалела, например, о сменовеховце Устрялове или его непосредственном помощнике Святополк-Мирском, которые на сменовеховской волне въехали в Россию и были там уничтожены. Это довольно очевидно, все знали. Из всех, кто вернулся и о ком пожалели, пожалуй, наиболее характерен пример Куприна. Куприн, кстати говоря, на какое-то короткое время между запойным алкоголизмом и раком пищевода, от которого он умер, примерно на год пришел в себя и начал понимать, куда он вернулся. Однажды к нему в Дом творчества, куда его временно поселили, приехал корреспондент «Комсомольской правды». Корреспондент спросил: «Ну что, Александр Иванович, как вам нравится на родине? Ведь вы, должно быть, в восторге?». – «Ну что ж не нравится? Самоварчик, сливочки, крендельки», – сказал Куприн с непередаваемой интонацией. И действительно он почувствовал крендельки. Крендельками этими он был окружен. Существует знаменитая легенда, что Куприн, когда его свозили в Гатчину, где у него был когда-то домик, посмотрел издали на этот зеленый домик (домик не вернули, он уже принадлежал другим хозяевам), после чего с устроенного в библиотеке торжественного мероприятия, где его должны были чествовать жители Гатчины, сбежал в станционный буфет, где жестоко надрался с единственным реально помнившим его человеком, бывшим смотрителем этой станции. Это, конечно, легенда, Куприн не мог тогда надраться. Но мы понимаем, что он все осознал, сюда вернувшись, и ни одного текста здесь уже не написал. Проблема в том, что эмигрант любит родину ровно до тех пор, пока он на нее не возвращается. Как только он вернулся, ему сразу все становится понятно.
Вертинский трижды подавал прошение о том, чтобы ему разрешили вернуться. Один раз он написал такое прошение уже в 22-м году, другой раз он смог встретиться с главой советской делегации в Берлине, с Луначарским, когда приехала довольно большая культурно-представительная группа. Он самому Луначарскому умудрился передать это прошение. Луначарский ходатайствовал за него, но ему опять было отказано. Непонятно, кстати, почему. Вероятно, потому что песня – самый демократический вид искусства и Вертинский мог бы быть здесь слишком популярен. Он знал, что он здесь популярен. И знал, конечно, знаменитое стихотворение Смелякова 34-го года «Любка»:
Гражданин Вертинский вертится. Спокойно
Девочки танцуют английский фокстрот.
Я не понимаю, что это такое,
Как это такое за сердце берет?
Почему, спрашивает он, на 15-м году революции «слушают девчонки импортную грусть». Молодому комсомольцу Смелякову это было еще непонятно. Кстати говоря, удивительная вещь: Смеляков, который написал эту гадость, был в юности невероятно талантливым поэтом и при этом каким-то невероятно противным. А более поздний Смеляков, прошедший лагеря, был поэтом гораздо более приличным, пока с ним не случился некоторый рецидив имперской идеи в конце 60-х. Он нормальный был человек, писал хорошие, в общем, стихи, но, к сожалению, это были стихи уже не той силы, что в 30-е годы, когда он был замечательным, правоверным комсомольцем. Это был один из парадоксов советской литературы, которая в 60-е годы во многих отношениях стала честнее, но жиже. А до этого она была густенько замешана на крови и производила сильное впечатление.
Вертинский знал, что его здесь слушают, он знал, что он здесь любим. Уже перебравшись в Китай, в Шанхай, где была огромная русская диаспора, где он познакомился с Натальей Ильиной, оставившей о нем прочувствованные воспоминания, уже в 43-м году он добился возвращения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу