При встрече же чаще всего передо мной возникал сухощавый аскетического вида человек, очень простой, естественный, до предела внимательный. Никаких обидных шуток, а если ирония, то обращенная к самому себе.
А в особо возвышенные моменты жгучий из-под густых бровей взгляд. Легкая улыбка, спрятанная в усы. Но опять же без слов. Его слово, каждое, было весомо.
В один из дней я позвонил к ним домой, подошла Ольга, сказала, что Булат ушел в магазин и скоро вернется.
“Он сырки творожные к завтраку покупает”.
Ерунда, подумаешь, сырки. Я бы и не стал о них упоминать, но ведь это для всех нас, кто за войну не пробовал сахару, крошечная ежедневная радость: творожные сладкие сырки на завтрак.
Один из наших маленьких праздников был в кабинете, где мы собирались на заседания Комиссии. Принесли гитару и, чтобы раззадорить Булата, стали петь его песни. Он и правда взял гитару и запел. Но пел немного, а в конце стал путать слова.
Это казалось почти невероятным: его слова нельзя было не помнить. Я знал еще случай, когда в компании ненароком в песне о комиссарах… кто-то ошибся: “и тонкий локоть отведет…” – все хором стали поправлять: “Острый! Острый локоть!”
То же и на одном из концертов Булата, когда он запамятовал слова песни про пиджак, зал дружно стал ему подсказывать… Почти подпевать.
На загородной президентской даче происходила встреча
Ельцина с интеллигенцией, и среди других приглашенных был Окуджава. Сбор назначили в Кремле, помню, автобус задержали, думали, вот-вот Булат подойдет. А через несколько дней он сам мне объяснил, не без некоторой досады, что ему позвонили из Союза писателей и кто-то из секретарей просил приехать с гитарой… “Что же, я актер какой, чтобы развлекать Президента?”
Но думаю, да Булат это и сам понимал: Президент тут ни при чем, кому-то из литературных чиновников захотелось выслужиться.
В театр “Школа современной пьесы” на юбилей Булата – семьдесят лет- мы пришли втроем – я, жена и маленькая
Машка, с огромным букетом алых роз, и в комнатке за кулисами первыми его поздравили. Потом поздравляли его у себя на Комиссии, и он сознался, что почти ничего не помнит из того, что происходило в театре. “Это было как во сне, – сказал он грустно. – А я не просил, я не хотел ничего подобного”.
К моей дочке он относился с трогательной заботой, интересовался ее успехами, а получив от нее очередной рисунок на память, по-детски восторгался. Но предупреждал: “Вы ее не захваливайте, хотя рисует она занятно…”
Предопределяло ли что-то его скорый уход?
Предчувствовал ли он?
Не знаю. Если что-то и было, то в подсознании, куда загоняла недобрые предчувствия рациональная память.
Особенно когда уходили другие, те, кто были рядом с ним.
Уходило поколение, благословленное одними и осужденное другими.
Конечно, мы видели, что в последнее время он частенько попадал в клинику: то сердце, то бронхи… Но выныривал из непонятных нам глубин, появлялся на
Комиссии, сдержанный, чуть улыбающийся, готовый к общению.
У него и шуточное четверостишие было по нашему поводу, которое он назвал “Тост Приставкина”:
Это наши маленькие праздники, наш служебный праведный уют.
Несмотря на то, что мы проказники, нам покуда сроков не дают.
Первым делом он подходил к стене, где я развесил рисунки моей дочки. Одобрительно хмыкал, рассеянно оглядывал огромный кабинет и присаживался на свое привычное место. Доставал сигареты, зажигалку, молча выжидал.
Во время заседания часто привставал, ходил, прислушиваясь со стороны к выступлениям коллег, а если они затягивались, подходил ко мне и тихо просил:
“Может, покороче? Уж очень длинно говорят!”
Был случай, когда заседание затянулось, проходило мерзкое дело одного насильника, Булат под занавес, уже после голосования, сымпровизировал:
Он долго спал в больничной койке, не совершая ничего, но свежий ветер перестройки привел к насилию его…
Он же про какого-то злодея мрачно пошутил:
– Преступника освободить, а население – предупредить!
В делах стали нам попадаться такие перлы: “преступник был кавказской национальности”. С легкой руки милицейской бюрократии пошла гулять “национальность” и по нашим делам, уже стали встречаться “лица немецкой национальности” и “лица кубинской национальности”… и т. д.
Мне запомнился такой разговор на Комиссии:
– Пишут: “Неизвестной национальности”… Это какой?
– Наверное, еврейской!
Читать дальше
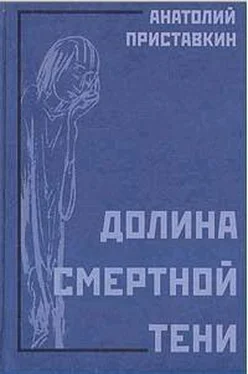

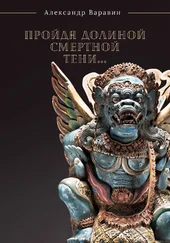
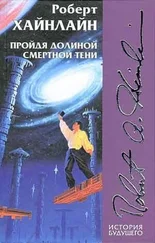

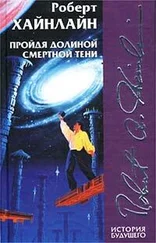
![Дмитрий Володихин - Долиной смертной тени [litres]](/books/400156/dmitrij-volodihin-dolinoj-smertnoj-teni-litres-thumb.webp)
![Владимир Гурвич - В долине смертной тени [Эпидемия]](/books/433741/vladimir-gurvich-v-doline-smertnoj-teni-epidemiya-thumb.webp)




