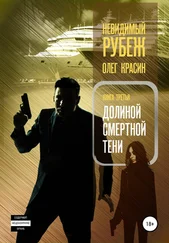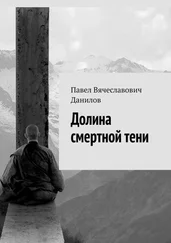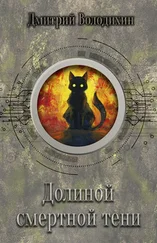Отозвавшись по телефону каким-то почти сонным низким голосом: “слушаю”, он сразу оживлялся, искренне радовался, когда кто-то из друзей ему звонил. И, особенно, навещал.
Как-то после заседания на Комиссии мы сделали крюк на машине, к нему в Переделкино, на его дачу.
Он раскупорил “Изабеллу”, купленную в местном переделкинском магазинчике, и мы ладненько посидели.
Он любил гостей, и все положенное – стаканчики, какие-то бутерброды, сыр, печенье сноровисто и легко метал из холодильника на стол.
Потом с детской улыбкой демонстрировал необычную свою коллекцию колокольчиков: стеклянных, фарфоровых, глиняных… А я ему потом привозил колокольчики из
Саксонии, из Киева… И он разворачивал, бережно, как птенца, беря на ладонь, рассматривал, поднося к глазам, переспрашивал, откуда, сдержанно благодарил.
Показывая свою коллекцию, он уточнил, что не специально собирает, а так, по случаю. Привстал со стула и провел по колокольцам рукой, позвенел, прислушиваясь, а садясь, снова налил бледно-розовую
“Изабеллу” и с удивлением произнес, что вино-то дешевое, но вполне…
Вот комната эта – храни ее Бог! – мой дом, мою крепость и волю, четыре стены, потолок и порог, и тень моя с хлебом и солью…
Книжки дарил с радостью и в надписях никогда не повторялся. При этом не спрашивал, как зовут жену или дочку, всегда это помнил.
Так же охотно дарил и стихи, написанные только что, от руки, четким, замечательно ровным, красивым почерком.
А импровизировал он легко, писал быстро и, казалось, совсем без затруднений.
Был случай, когда на заседание Комиссии пришел наш
Старейшина и пожаловался, что жмет сердце. Я предложил рюмку, он согласился.
Тут же сидящий напротив Булат выдал четверостишие:
Я забежал на улочку с надеждой в голове, и там мне дали рюмочку, а я-то думал две…
– Ну, можно и две, – отреагировал я с ходу и принес
Старейшине еще рюмку, которую тот осушил.
А следом последовали новые, во мгновение возникшие стихи:
За что меня обидели? – подумал я тогда…
Но мне вторую выдали, а третью?
Никогда.
– Почему же “никогда”, – возмутился я и сбегал, принес третью. Старейшина, поблескивая голубым глазом, поблагодарил и радостно принял вовнутрь.
Но слово осталось за Булатом.
Смирился я с решением: вполне хорош уют…
Вдруг вижу с изумлением: мне третью подают.
И взял я эту рюмочку!
Сполна хлебнул огня!
А как зовут ту улочку?
А как зовут меня?
Однажды зашел разговор о его прозе, и Булат как бы вскользь произнес, что прозу его как-то… недопонимают, что ли… А если честно, то помнят лишь песни, и когда ездил по Америке (заработок!), то шумный успех, который его сопровождал (об этом я знал из газет, не от него), был-то в основном среди бывших русских, тех, кто сохранял ностальгию по прошлому, связанному и с его песнями. Он не кривил душой. Он так считал.
Лично же для меня его проза была существенной частью всего, что он писал, начиная с первой, небольшой, автобиографической повести “Будь здоров, школяр!”, опубликованной в известных “Тарусских страницах”, и далее, до “Бедного Авросимова” и другой исторической прозы. Ни у кого из наших современников не встречал я такого тончайшего проникновения в быт ушедшей эпохи, в стиль речи, в романтические характеры героев, в особое видение примет и черт века.
Мы никогда не говорили с Булатом о Дон-Кихоте.
Но рыцарство было у него в крови. Как и благородство.
Как и высокое чувство к Прекрасной даме… Достаточно вспомнить лишь это: “Женщина, Ваше величество, да неужели сюда?”
Он все про себя знал
Вглядываясь в Булата, я всегда старался угадать, где проглянет тот прорицатель, мудрец, обладатель тайн, явленных в “Молитве” и других стихах, в каких словах, каком движении, взгляде…
Внешне это никак не выражалось. Лишь в стихах. А ведь стихи-то почти все провидческие.
Один из последних сборников, прямо-таки на выбор любое стихотворение – и везде о своем уходе.
Он предупреждал нас, а сам все уже знал.
А если я погибну, а если я умру, простится ли мой город, печалясь поутру, пришлет ли на кладбище, в конце исхода дня своих счастливых женщин оплакивать меня?
Но он-то знал, что и город простится, и… женщины придут… Это он нам рассказал, как будет, а знак вопроса поставил из-за своей щепетильности.
Стихи, конечно, провидческие, как у Пастернака в
“Августе”. И даже то, что слово “погибну” поставил прежде слова “умру”, свидетельствует, что он предвидел гибель, как это в конце и произошло.
Читать дальше
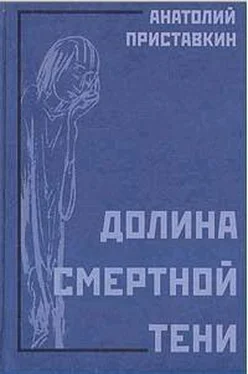
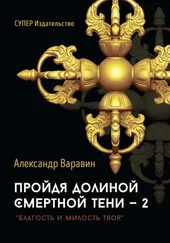
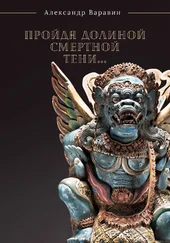
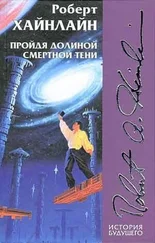
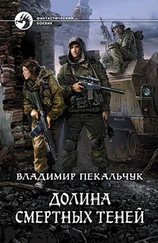
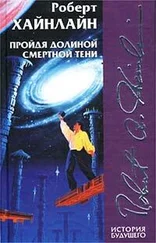
![Дмитрий Володихин - Долиной смертной тени [litres]](/books/400156/dmitrij-volodihin-dolinoj-smertnoj-teni-litres-thumb.webp)
![Владимир Гурвич - В долине смертной тени [Эпидемия]](/books/433741/vladimir-gurvich-v-doline-smertnoj-teni-epidemiya-thumb.webp)