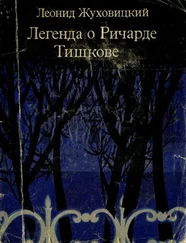У меня нет оснований гордиться бескорыстием: у меня ведь тоже была корысть, только иная. Если бы судьбу можно было переиграть, я бы вряд ли стал что-нибудь менять. Ведь я жил именно так, как мне нравилось и хотелось. И, наверное, это и есть самое приятное: прожить не чужую, а свою жизнь. Богатую или скромную, в славе или комфортной безвестности, но — свою.
Моя дочь Аленка к своим десяти годам побывала в Швеции, в Венесуэле и раз десять в Турции. Моя мама, слава Богу, успела — съездила туристкой в Болгарию и Венгрию. Сколько было потом рассказов, друзей завела, открытки посылала к Новому году, подарки туда и оттуда передавались с оказиями. А вот отец, прожив девяносто три года и имея трудовой стаж в сорок семь лет, границу страны трудящихся не пересек ни разу. Сперва, вообще, для людей не чиновных туризм не существовал, при Хрущеве появился, но с множеством ограничений — например, пенсионеров не выпускали. Почему, никто не объяснял. Нет — и все.
У меня были свои ограничения.
Мне никогда не хотелось жить заграницей. Просто не хотелось. Я человек России, здесь все мое, и друзья мои, и женщины (может, это главное), и язык, и бесчисленные проблемы тоже мои. Тех, кто уезжает, понимаю, если хорошо там устраиваются, уважаю, если не приживаются, жалею. Однако осуждать и в голову не придет: живем только раз, и каждый сам решает, где ему лучше. Что до меня — наверное, я просто дерево из этого леса, для пересадки не пригодное.
Но, будучи до последнего корешка человеком России, я всегда стремился повидать мир. Советский Союз изъездил вдоль и поперек, а вот за рубежи отечества до тридцати двух лет не попадал ни разу. В страны «социалистического лагеря», то есть, Польшу, Болгарию и т. д., к тому времени уже «выпускали» — был такой унизительный для подданных Страны Советов термин, лексически подчеркивавший их собачье положение под властью коммунистов. Но я в «выпускаемые» не попадал по причине, скорее, канцелярской: требовалась характеристика, подписанная пресловутым «треугольником» — директор, парторг и председатель месткома. Я широко печатался в газетах и журналах, вышли две книги, но на работу в редакции не брали — а, значит, ни директора, ни парторга, ни председателя месткома надо мной не было. В Союз писателей заявления не подавал, искренне считая себя недостойным. Но совершенно неожиданно мне дважды выпала счастливая карта: сперва позвали на Совещание молодых писателей, а после, по его результатам, в Союз писателей. В небе надо мной возник, наконец, желанный «треугольник», и я тут же подал заявление на туристическую путевку в Польшу и Чехословакию. Выпустили — вместе с Булатом Окуджавой, Жорой Владимовым и еще несколькими литераторами того же скромного ряда, в писательских секретариатах не заседавших, партию вдохновенным словом не славивших и потому более престижных заграниц не заслуживших.
Когда переезжали границу, я влип носом в окно: неужели через минуту Европа, пусть даже такая скромная, как Польша? Но больше, чем все, увиденное вскоре за рубежом, потрясла меня сама граница: высоченные, метров в пять, стальные балки, густо опутанные колючей проволокой и — я и помыслить не мог! — сверху загнутые не наружу, а внутрь. Прежде, как последний идиот, верил, что границу укрепляют против шпионов-диверсантов, чтобы не лазили к нам под покровом ночи. А оказалось наоборот: колючее, тюремного вида, страшилище направлено именно против нас, чтобы у граждан самой свободной на свете страны не возникала безумная мысль бежать из заключения…
Та поездка дала мне очень много — но о ней в другой раз, сейчас иная тема.
В те годы чиновники, в том числе, литературные, ездили за рубеж часто и за казенный счет. У рядовых писателей был лимит: раз в три года туристом. Выдержав положенную паузу, я подал заявление в какую-то капстрану, уж не помню, какую. Анкеты, фотографии, месяца полтора ожидания. И, за день до отъезда — ваши документы не пришли. На бессмысленный вопрос, почему не пришли, только пожали плечами. Кто мог знать — ведь документы приходили или не приходили «оттуда»… Через полгода в Иностранной комиссии Союза писателей вывесили новый список поездок, я вновь подал заявление — и опять «не пришли».
Я уперся: стал подавать свои безнадежные заявления при каждом поводе, коллекционировал отказы. Делал я это, скорей, от нараставшей злости. Я представлял себе, как в какой-то инстанции сидит аккуратный лысенький чиновник и прикидывает, сбегу я или нет. Да кто он такой, подонок? Кто дал право этой гниде проверять меня на любовь к родине?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу