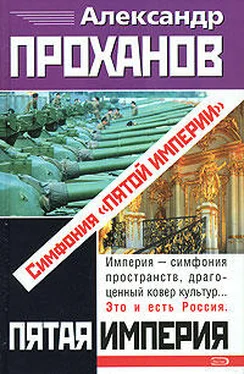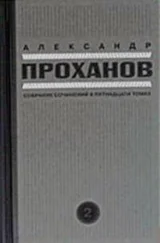Я прожил большую жизнь. Главное желание моей жизни – я хотел бы умереть и лечь в одну могилу с отцом. Отыскать, наконец, его могилу, и в ней вместе с ним упокоиться. И вместе с ним воскреснуть. Увидеть, как из волжской земли собирается его плоть, как наполняется он красотой жизни. Ему, когда он погиб, было тридцать три года, как и Христу. Вместе мы сядем за огромное застолье, где сидит весь наш род, вся наша бесчисленная, уходящая в прошлое родня, которая уже – не родня, а народ. Это будет трапеза воскрешенного, пасхального человечества. Во главе стола сядет Спаситель.
Я рос без отца, сложившего голову под Сталинградом. И без братьев – мама и бабушка взращивали меня среди голода, разрухи, не давая погаснуть последнему огоньку нашего побитого рода. Псковские друзья были мне отцами и старшими братьями. Теперь, когда их нет на земле, я чувствую их присутствие в себе постоянно, как тайные слезы, любовь, сокровенную веру в бессмертие, в грядущую, нам уготованную встречу. Под стенами Изборской крепости с каменными крестами, бойницами, крохотными, растущими из развалин березами. Или на Труворовом городище, на каменных ступенях маленькой, драгоценно-белой Никольской церкви, куда в жару приходили овцы, и мы, окруженные их пыльными горячими телами, зелеными библейскими глазами, смотрели на озеро с плавающим лебедем. Иногда просыпаюсь и вижу себя молодым в разрушенном коробе мальского храма. Старательно прикладываю рулетку к щербатым стенам, обмеряю апсиду, проем окна, остатки каменных шершавых столпов. Бережно заношу контуры храма на неумелый чертеж, выполняя поручение любимого друга, реставратора Бориса Степановича Скобельцына, для меня – просто Бори. И он сам вдалеке приближается ко мне по цветущей горе, машет ржаным колоском. Не дойдя до церкви, делает несколько снимков, прицеливаясь в меня стареньким «Киевом», изгибаясь в странный иероглиф, похожий на большого журавля. Выхватывает из сияющего пространства исчезающую секунду, которая ныне, как засушенный цветок, лежит в моей коллекции фотографий, сделанных замечательным художником.
Говорят, что Андрей Рублев внес в Русское Средневековье, в пору Московской Руси, лучистый свет Возрождения. Утверждают, что Пушкин под угрюмые своды тяжеловесной Российской империи привнес ослепительную радость Ренессанса. Быть может, в «красной» советской империи, в ее северо-западном уголке, во Пскове, явилось краткое чудо Возрождения, привнесенное в железную музыку жестокого века горсткой ликующих, гениальных людей, к которым принадлежал Скобельцын.
Они вернулись живыми с самой жестокой войны, иные израненные, другие сотрясенные ужасом потерь и страданий. Вырвались опаленные из огнища, не веря в чудо спасения, обожествленные Великой Победой, страстно желая восполнить бессчетные смерти, наделенные избыточно энергией павшего на войне поколения. Из окопа – в аудитории ленинградских институтов, а оттуда – во Псков, на закопченные руины церквей, на изглоданные башни монастырей и крепостей, на которых еще виднелось: «мин нет». Вся их страсть и любовь, запоздалое ожидание чуда раскрылись в работе по воссозданию храмов, среди восхитительной псковской природы. Намоленные, с блеклыми фресками стены, их живая неостывшая древность, и Ангел Победы, витавший над русской порубежной землей, возвысили этих людей, многократно умножили их таланты и знания, поместили в них светоносные силы, сделали людьми Возрождения.
Скобельцын неутомимо ходил по псковской земле, исхаживая ее, как землемер. Мерил ее вдоль и поперек длинными, не знавшими устали ногами, словно высчитывал шагами расстояние от церкви до церкви, от горы до горы, от озера до озера, отыскивая спрятанный клад, обозначенный на каком-то, ему одному ведомом чертеже. Я едва поспевал за ним. Глядел, как он шагает, увешанный аппаратами, с полевой военной сумкой, где хранились обмеры дворянской усадьбы или монастырского погоста. Видя, как я устал, он оборачивался красивым, глазастым, загорелым лицом. Белозубо хохотал, бодрил, трунил, звал в цветущее поле, на травяное ветряное городище, в красные сосняки, уверяя, что клад будет найден. И клад открывался.
Часовенка «Ильи Мокрого» на Печерском тракте, у блестящей струйки ручья, который мелко вилял по равнине, а потом опрокидывался вниз, с кручи, к озеру, питаясь по пути ключами, родниками, донными струями. Наливался, шумел, бурно гремел водопадами, вращал на своем пути пять водяных мельниц с зубастыми сырыми колесами, стуком каменных жерновов, белой ржаной пудрой на спине потного мельника. В часовне теплый сумрак, аляповатый образ Ильи Пророка, вянущий букетик цветов, и Боря, наступив на блестящую воду, фотографирует нашу спутницу, прелестную женщину, выходящую из часовни на свет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу