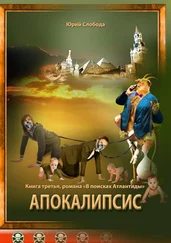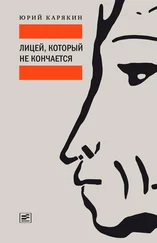Но культура должна помочь нам прозреть перед угрозой смерти… Существует, правда, какое-то странное заблуждение: ничего, инстинкт самосохранения спасет человечество. Да, инстинкт самосохранения был у человека, как и у животных. Но дальше — вся история человечества состояла в потере этого инстинкта.
Итак, впервые человечество стало практически смертным… И впервые мы благодаря культуре сознаем это и сознаем, кто мы такие. Каждый по-своему, на языке своей национальности и на уровне своей индивидуальности, открывает, что все мы прежде всего — ЗЕМЛЯНЕ. Вот в этом — еще одна природа культуры. Не может быть войны между культурами, как не может быть войны между витаминами, в которых нуждается человек. Как не может быть войны между полушариями в мозгу…
У меня есть своя мечта — создать книгу, раскрывающую красоту всех религий. Красоту — храмов. Красоту — всех Рафаэлей, Микеланджело и Рублевых.
Как Николай Вавилов собирал семена злаков во многих странах, со всего мира (факт символический!), так религиозные храмы повсюду в мире собирают духовно-нравственные ценности и красоту всех религий мира.
Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового завета…
О. Мандельштам
«Красота мир спасет» — эти слова Достоевского [6] В романе «Идиот» Ипполит Терентьев спрашивает князя Мышкина: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет “красота”? <���…> Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал» (8; 317), — то есть это высказывание Мышкина дано в двойном пересказе. Князь на вопрос Ипполита не отвечает. В прямом авторском высказывании эти слова у Достоевского нигде не встречаются. Впоследствии это выражение очень многими (начиная, по-видимому, с Вл. Соловьева) употреблялось в формулировке «Красота спасет мир». Между выражениями «Красота спасет мир» и «Мир спасет красота», конечно, есть разница. Как отметила томская исследовательница Е.Г. Новикова (см.: Новикова Е. «Мир спасет красота» Ф.М. Достоевского и русская религиозная философия конца XIX — первой половины ХХ в. // Достоевский и ХХ век / Под ред. Т.А. Касаткиной: В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2007. Т. 1. С. 97—124), второе неизбежно требует вопроса (который и задает Ипполит): какая красота спасет мир? Ответ Достоевского содержится в черновиках романа «Бесы»: «Мир станет красота Христова» (11; 188). Очевидно, Ю.Ф. ближе это выражение в той форме, в какой он употребляет его здесь (и неоднократно повторяет далее).
в последние годы слишком известны. Но почти те же слова и мысли, почти буквально, находим мы и у Шиллера, и у Гёте, да и у всех великих художников.
Глава 1
«Уничтожить неопределенность»
В черновиках к «Преступлению и наказанию» Достоевский записал: «…уничтожить неопределенность, т. е. так или этак объяснить все убийство…» (7; 141).
Удалось ли ему это?
Речь и пойдет здесь о мотивах (истинных и мнимых) преступления Раскольникова, о его самосознании , точнее — о соответствии этого самосознания действительности, о соотношении целей, средств и результатов его действий.
«Преступление и наказание» — нет, пожалуй, другого столь давно и единодушно признанного классического произведения, оценки которого были бы столь разноречивы и даже противоположны, причем главным образом — именно по вопросу о мотивах преступления Раскольникова и об отношении к ним Достоевского.
Доминирует (пока) концепция двойственности мотивов: один мотив «негативный» (Наполеоном хотел стать), другой — «позитивный» (хотел добра людям). Есть идея «многослойности», «полимотивности», когда находят три, четыре и даже пять мотивов. Эта идея, однако, не выходит за рамки концепции двойственности, поскольку каждый из мотивов тяготеет к тому или иному полюсу.
Еще пятьдесят лет назад И.И. Гливенко, первый публикатор и комментатор черновиков к роману, пришел к выводу, что «уничтожить неопределенность» Достоевскому не удалось. [7] Гливенко И.И. Раскольников и Достоевский. Печать и революция. 1926. Кн. 4; см. также его предисловие к кн.: Из архива Достоевского. «Преступление и наказание»: Неизданные материалы. М.—Л., 1931. С. 30.
С тех пор и надолго эта оценка оказалась господствующей (да, в сущности, и единственной) в литературе о Достоевском.
Художник хотел решить вопрос «так или этак» , однако «этого выбора Федор Михайлович не сделал», [8] Шкловский В. За и против: Заметки о Достоевском. М.: Советский писатель, 1957. С. 189–190.
— пишет В. Шкловский. У В. Ермилова читаем: «Писатель остро чувствовал необходимость отдать окончательное предпочтение тому или другому варианту; в конечном итоге он склонился к наполеоновскому варианту, но все же в романе сохранилось многое и от второго варианта». [9] Ермилов В. Ф.М. Достоевский. М.: Художественная литература, 1956. С. 161.
Ю. Борев утверждает: «Автор все время подменяет один мотив другим». [10] Борев Ю. О трагическом. М.: Советский писатель, 1961. С. 141.
С ними солидарен и Э. Васиолек, говоривший в предисловии к англо-американскому изданию черновиков романа о том, что сам Достоевский был не в силах решить, какой из мотивов можно считать истинным. [11] The Notes-Books for «Crime and Punishment». Chicago — London, 1967. P. 31.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

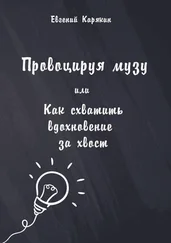


![Юрий Литвиненко - Дорогами апокалипсиса [СИ]](/books/405220/yurij-litvinenko-dorogami-apokalipsisa-si-thumb.webp)